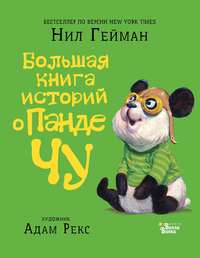Полная версия
Сыновья Ананси
За столом у двоюродной бабушки были только родственники и близкие друзья. Еще несколько лет после смерти матери он иногда задумывался, кем был тот незнакомец и почему тогда пришел. Хотя порой Толстяку Чарли казалось, что все это ему привиделось…
– Значит так, – сказала Рози, осушая бокал шардоне. – Ты позвонишь миссис Хигглер и дашь ей номер моего мобильного. Расскажи ей о свадьбе, расскажи, когда… Слушай, а мы не должны ее пригласить?
– Можем, если захотим, – сказал Толстяк Чарли. – Но не думаю, что она придет. Она очень старая, они знакомы с отцом еще со Средних веков.
– В общем, уточни. Узнай, может, и ей следует послать приглашение.
Рози была хорошим человеком. В Рози было немножко от Франциска Ассизского, немножко от Робин Гуда, Будды и волшебницы Глинды из страны Оз: сознание того, что она вот-вот воссоединит свою настоящую большую любовь с отлученным отцом, переводило грядущую свадьбу в новое измерение. Теперь это была не просто свадьба. Это была гуманитарная миссия. И Толстяк Чарли был знаком с Рози достаточно давно, чтобы никогда не вставать между невестой и ее потребностью Творить Добро.
– Я позвоню миссис Хигглер завтра, – сдался он.
– Вот что, – сказала Рози, очаровательно сморщив носик, – позвони ей сегодня. В конце концов, в Америке сейчас еще не поздно.
Толстяк Чарли кивнул. Они вышли из бара вместе: Рози летела как на крыльях, Толстяк Чарли плелся как приговоренный к повешению. Не будь дураком, говорил он себе, в конце концов, миссис Хигглер могла переехать или отключить телефон. Это возможно. Все возможно.
Они поднялись к Толстяку Чарли, он занимал верхнюю половину небольшого дома на Максвелл-Гарденс, в стороне от Брикстон-роуд.
– Который час во Флориде? – спросила Рози.
– Часов пять, – сказал Толстяк Чарли.
– Хорошо. Тогда звони.
– Может, лучше подождем? Вдруг она вышла.
– А может, лучше позвонить сейчас, пока она не села ужинать?
Толстяк Чарли нашел свою старую записную книжку, где к букве «Х» был вложен обрывок конверта, на котором рукой матери был выведен телефонный номер, а чуть ниже написано «Келлиэнн Хигглер».
Гудок, и еще гудок.
– Ее нет, – сказал он Рози, но в этот момент на другом конце сняли трубку, и женский голос произнес: «Да! Кто говорит?».
– Хм. Это миссис Хигглер?
– Кто говорит? – повторила миссис Хигглер. – Если, черт вас возьми, вы хотите мне что-нибудь продать, немедленно вычеркните меня из своих списков или я вас засужу. Мне мои права известны.
– Нет. Это я. Чарльз Нанси. Я жил рядом с вами.
– Толстяк Чарли! Ну надо же! А я все утро искала твой номер. Все вверх дном перевернула и, как думаешь, нашла? Наверняка в старой расчетной книге записан. А ведь все перерыла! И я сказала себе: Келлиэнн, тебе следует помолиться в надежде, что Господь тебя услышит и поможет, и я упала на колени, ну, то есть мои колени уж не те, что раньше, я просто молитвенно сложила руки, но все-таки не нашла твой номер, зато ты сам вдруг взял и позвонил, и это даже лучше в каком-то смысле, например потому, что я ведь деньги не печатаю и не могу себе позволить международные звонки даже по такому поводу, хотя, учитывая обстоятельства, я, конечно, собиралась тебе позвонить, ты, главное, не волнуйся…
Тут она внезапно умолкла, то ли чтобы вдохнуть, то ли сделать глоток обжигающе горячего кофе из огромной чашки, которую всегда держала в левой руке. Во время этого короткого перерыва Толстяк Чарли сказал:
– Я папу собирался пригласить на свадьбу. Женюсь.
На другом конце линии тишина.
– Впрочем, не раньше декабря, – сказал он.
Молчание.
– Ее зовут Рози, – добавил он любезно.
Он уже начал подозревать, что связь оборвалась, потому что разговоры с миссис Хигглер обычно носили односторонний характер, и зачастую она говорила не только за себя, но и за собеседника, а тут, ни разу не перебив, трижды позволила ему высказаться. Толстяк Чарли решился на четвертую попытку.
– И вы приходите, если хотите, – сказал он.
– Боже, боже! – ответила миссис Хигглер. – Никто тебе не сообщил?
– Не сообщил что?
И она поведала ему во всех подробностях, а он стоял и ничего не отвечал, а когда она закончила, сказал: «Спасибо, миссис Хигглер». Написал что-то на обрывке бумаги, снова сказал: «Спасибо, нет, правда, спасибо», – и повесил трубку.
– Ну? – спросила Рози. – Номер взял?
Толстяк Чарли сказал, что отца на свадьбе не будет. Потом сообщил, что должен поехать во Флориду. Голосом ровным, без эмоций. Таким же тоном он мог заказать себе новую чековую книжку.
– Когда?
– Завтра.
– Зачем?
– Похороны. Моего отца. Он умер.
– Ах. Мне жаль. Мне так жаль! – Она крепко его обняла, а он застыл в ее объятиях, как манекен. – Как он… Он болел?
Толстяк Чарли покачал головой.
– Я не хочу говорить об этом, – сказал он.
И Рози обняла его еще крепче, а затем сочувственно кивнула и отстранилась. Она подумала, что он не может говорить, потому что ему очень больно.
Но нет. Дело было не в этом. Ему было очень стыдно.
* * *Существует, кажется, тысяча почтенных способов умереть. К примеру, можно спрыгнуть с моста в речку, чтобы спасти тонущего ребенка, или напичкать себя свинцом, в одиночку штурмуя бандитское гнездо. Не придерешься.
По правде говоря, есть и менее почтенные, но вполне сносные. Спонтанное самовозгорание, к примеру: рискованно с медицинской точки зрения и маловероятно с научной, но это не мешает человеку развеяться как дым, не оставив после себя ничего, кроме обугленной руки, сжимающей недокуренную сигарету. Толстяк Чарли читал о таком в журнале и ничего не имел бы против, если бы отец умер именно так. Или на улице, от сердечного приступа, преследуя вора, вытащившего из кармана мелочь.
А вот как в действительности умер отец Толстяка Чарли.
В баре он появился рано и начал караоке-вечеринку с песни «What’s new, Pussycat?», и, как сказала миссис Хигглер, которой, правда, при этом не было, он проорал песню так, что, будь на его месте Том Джонс, его бы забросали женским бельем. Отцу же Толстяка Чарли досталось бесплатное пиво от туристок – блондинок из Мичигана, решивших, что он – ну просто душка.
– Это они виноваты, – горько сообщила миссис Хигглер в телефон. – Ониподначивали его!
Эти втиснутые в топики женщины с красной – слишком много солнца за слишком короткий срок – кожей годились ему в дочери.
Но довольно скоро он уже сидел за их столиком и курил черуту, толсто намекая, что служил во время войны в разведке (предусмотрительно не уточняя, о какой войне речь) и что знает десяток способов убить человека голыми руками и при этом не вспотеть.
И вот он вытягивает самую грудастую и блондинистую туристку на коротенькую прогулку по танцполу, пока ее подружка заливается со сцены, исполняя «Strangers in the Night». И кажется, все идет отлично, хотя туристка немного повыше, и он ухмыляется ей прямо в грудь.
А потом, после танца, он объявляет, что снова его очередь, и поет гимн геев «I am what I am»[8] (а ведь если что и можно было сказать об отце Толстяка Чарли вполне определенно, так это то, что он гетеросексуал) на весь зал, но главным образом – самой блондинистой туристке за столиком, как раз возле сцены. В песню он вложил всего себя. Он как раз добрался до места, где объяснял слушателям, мол, что до него, жизнь не стоит и гроша, если он не сможет сказать каждому, что он таков, каков он есть, как вдруг изменился в лице, схватился рукой за грудь, а вторую выбросил в сторону и упал так степенно и элегантно, как только может упасть человек, сначала с импровизированной сцены на блондинистую отпускницу, а с нее – на пол.
– Как он всегда и хотел, – вздохнула миссис Хигглер.
И рассказала Толстяку Чарли, как его отец последним жестом, падая, ухватился за нечто, оказавшееся грудью блондинки, до того момента прикрытой топиком, причем так, что поначалу кое-кто подумал, что это был похотливый прыжок со сцены с единственной целью обнажить означенные груди, потому что блондинка, выставив их, вопила, а музыка продолжала играть «I am what I am», только никто больше не пел.
Когда зеваки поняли, что произошло на самом деле, они объявили минуту молчания. Приезжая блондинка билась в истерике в женском туалете, а отца Толстяка Чарли вынесли из бара и погрузили в «скорую».
Груди, вот что Толстяк Чарли не мог выбросить из головы. Ему представлялось, как они сурово следят за ним, как глаза с портрета. Он хотел извиниться перед целой кучей людей, которых никогда не видел. И понимание того, что отец счел бы все это чрезвычайно забавным, только усугубляло его состояние. Гораздо хуже, если вас смущает что-то, чего вы не видели: ваш мозг преувеличивает случившееся, прокручивая все снова и снова, тщательно обдумывая каждую деталь. Ну, ваш, может, и нет, но мозг Толстяка Чарли – определенно да.
Как правило, Толстяк Чарли чувствовал стыд зубами и под ложечкой. Когда ситуация на телеэкране еще только грозила обернуться неловкостью, Толстяк Чарли подскакивал на месте и выключал телевизор. Если это было невозможно – скажем, в присутствии других людей – он выходил из комнаты под каким-либо предлогом и ждал до тех пор, пока неприятный момент останется позади.
Толстяк Чарли жил в южном Лондоне. Он приехал сюда, когда ему было десять, и поначалу говорил с американским акцентом, из-за которого его постоянно высмеивали и от которого он очень хотел избавиться, окончательно искореняя последние мягкие согласные и раскатистое «эр», изучая правильное и к месту употребление британского «нетакли». Он окончательно преуспел в потере американского акцента к шестнадцати, как раз когда одноклассникам до зарезу потребовалось говорить так, будто они выросли в Гарлеме. Вскоре все они, за исключением Толстяка Чарли, звучали как люди, которые хотят звучать точно так, как звучал Толстяк Чарли, когда только приехал в Англию, правда, если бы он на людях употреблял такие словечки, немедленно бы схлопотал от матери.
Дело ведь в том, как ты звучишь.
Когда стыд, вызванный отцовским способом ухода из жизни, начал сходить на нет, Толстяк Чарли почувствовал себя опустошенным.
– Я совсем один, – сказал он Рози чуть не с обидой.
– У тебя есть я, – сказала Рози.
Это вызвало у Толстяка Чарли улыбку.
– И моя мама, – добавила она, и улыбка застыла на его губах.
Она чмокнула его в щеку.
– Но ты могла бы остаться на ночь, – предложил он. – Успокоишь меня, все такое.
– Я могла бы, – согласилась она. – Но не собираюсь.
Рози не собиралась спать с Толстяком Чарли, пока они не поженятся. Она сказала, что таково ее решение, и она приняла его, когда ей было пятнадцать; не то чтобы она была тогда знакома с Толстяком Чарли, но так уж она решила. Поэтому она обняла его еще раз. Крепко. И сказала: «Знаешь, тебе нужно примириться с отцом». А потом ушла домой.
Он провел беспокойную ночь, то засыпая, то просыпаясь, то размышляя, то снова проваливаясь в сон.
Встал на рассвете. Когда начнется рабочий день, он позвонит турагенту и узнает, каковы скидки на билеты для тех, кто едет на похороны, а потом позвонит в агентство Грэма Коутса и скажет, что в связи со смертью родственника ему нужно отлучиться на несколько дней и да, он знает, что их вычтут из больничных или из отпуска. Но пока он радовался тому, что вокруг было тихо.
Он прошел по коридору к маленькой комнатушке и выглянул из окна в сад. Запели утренние птицы, и он разглядел черных дроздов, крохотных, порхавших у самой земли воробьев, а в ветвях ближайшего дерева одинокого пятнистогрудого дрозда. Толстяк Чарли подумал, что мир, в котором по утрам поют птицы, нормален и разумен и что он не возражает быть частью такого мира.
Позже, когда птицы станут опасны, Толстяк Чарли все еще будет вспоминать это утро, как что-то доброе и хорошее, но также как то, с чего все началось.
Это было прежде безумия. И прежде страха.
Глава 2
в которой рассматриваются некоторые вещи, происходящие после похорон
Проходя по Мемориальному саду упокоения, Толстяк Чарли тяжело дышал, щурясь от флоридского солнца. Весь его костюм, начиная с подмышек и груди, был в потных разводах. А когда побежал, он почувствовал, как пот стекает еще и по лицу.
Мемориальный сад упокоения и в самом деле был похож на сад, но на очень странный сад, в котором все цветы искусственные и растут в металлических вазах, выступающих из вкопанных в землю металлических плит. Толстяк Чарли пробежал мимо таблички «БЕСПЛАТНЫЕ Похоронные Участки для всех Почетных Ветеранов В Отставке!». Пересек Бэбиленд, где искусственные цветы на флоридском дерне дополняли разноцветные мельницы и несвежего вида голубые и розовые медвежата, среди которых печально глядел в голубые небеса подгнивший Винни Пух.
Заметив похоронную процессию, Толстяк Чарли сменил направление и рванул напрямик. Вокруг могилы собралось человек тридцать, может, чуть больше. Женщины в темных платьях и больших черных шляпах, отделанных черным кружевом и похожих на сказочные цветы. Мужчины в костюмах без потных разводов. Серьезные дети. Толстяк Чарли замедлил ход до почтительного, все еще торопясь, но без того, чтобы кто-нибудь заметил, что он и правда торопится, а дойдя до друзей и родственников, попытался пробраться в первые ряды, не привлекая особого внимания. Учитывая, что он пыхтел как морж, только что преодолевший лестничный пролет, пот тек по нему ручьями, и к тому же он прошелся по чужим ногам, попытка явно не удалась.
Он притворился, будто не замечает свирепых взглядов. Все пели песню, которой он не знал. Толстяк Чарли принялся покачивать головой в такт, делая вид, будто поет, и двигая губами таким образом, что это могло означать, что он и вправду поет вполголоса, а могло означать, что он бормочет себе под нос молитву, но могло оказаться и случайным движением губ. Улучив возможность, он бросил взгляд на гроб, который, к счастью, был накрыт крышкой.
Гроб был замечательный, очень прочный с виду, из армированной стали, темно-серый. В случае воскрешения, подумал Толстяк Чарли, когда Гавриил протрубит в свой мощный рог и мертвые восстанут из гробов, отец наверняка застрянет в могиле, тщетно долбясь об крышку и жалея, что его не похоронили с монтировкой или хотя бы ацетилено-кислородной горелкой.
Стихло последнее, очень мелодичное «аллилуйя». В наступившей тишине до Толстяка Чарли донеслось, как на другом конце мемориального сада, там, откуда он пришел, кто-то кричит.
– Кто-нибудь хочет сказать несколько слов о человеке, с которым мы прощаемся сегодня? – спросил священник.
Судя по выражению лиц тех, кто стоял ближе к могиле, говорить собирались несколько человек. Но Толстяк Чарли понимал – теперь или никогда.Знаешь, тебе нужно примириться с отцом. Ладно.
Он вдохнул поглубже, шагнул вперед, оказавшись на краю могилы, и сказал:
– Хм. Простите. Да. Думаю, мне есть что сказать.
Далекие крики становились все громче. Некоторые из присутствующих обернулись, чтобы посмотреть, кто кричит. Остальные уставились на Толстяка Чарли.
– Мы с отцом никогда не были, что называется, близки, – сказал Толстяк Чарли. – Думаю, мы не знали, как это бывает. Я двадцать лет не принимал участия в его жизни, а он в моей. Многое трудно простить, но однажды ты оборачиваешься, а у тебя никого не осталось. – Он вытер рукой пот со лба. – Не думаю, что хоть когда-нибудь говорил «Я люблю тебя, папа». Все вы, кажется, знали его лучше, чем я. Некоторые, может, даже любили. Вы были частью его жизни, а я – нет. Так что я не стыжусь того, что сейчас скажу, а вы услышите. Скажу в первый раз за, по меньшей мере, двадцать лет.
Он опустил глаза на солидную металлическую крышку.
– Я люблю тебя, – сказал он. – И никогда тебя не забуду.
Крики стали еще громче, настолько громче и отчетливей, что в тишине, последовавшей за выступлением Толстяка Чарли, каждый мог услышать и разобрать в этом оре, заполнившем сад упокоения, отдельные слова.
– Толстяк Чарли! Оставь в покое этих людей исейчас же тащи сюда свою задницу!
Толстяк Чарли уставился в море незнакомых лиц в хаосе прорвавшихся эмоций: шока, замешательства, злости и страха; с пылающими ушами он осознал, что произошло.
– Э. Извините. Ошибся похоронами, – сказал он.
Лопоухий мальчишка, рот до ушей, гордо изрек:
– Это была моя бабуля!
Толстяк Чарли двинул назад сквозь толпу, еле слышно бормоча извинения. Он бы предпочел, чтобы конец света наступил прямо сейчас. Он знал, что вины отца в происходящем нет, но также был уверен, что тот нашел бы все это очень забавным.
Дорогу ему преградила крупная седовласая дама: руки в боки, на лице – гроза. Толстяк Чарли приближался к ней, словно пересекая минное поле, будто ему снова девять лет, и у него неприятности.
– Ты что, не слышал, как я ору? – спросила она. – Мимо меня промчался. Выставил себя нахосрамление!
Она так и сказала, с «ха» в начале слова.
– Пойдем, – сказала она. – Службу и все остальное ты пропустил. Но горсть земли бросить успеешь.
Миссис Хигглер за последние два десятилетия почти не изменилась: чуть располнела, чуть поседела. Плотно сжав губы, она вела его по одной из многих дорожек мемориального сада. Толстяк Чарли подумал, что он, возможно, оставил о себе не самое лучшее первое впечатление. Она шла впереди, опозоренный Толстяк Чарли следовал за ней.
По металлической изгороди мемориального сада взбежала ящерка, задержалась на верхушке «пики», смакуя плотный флоридский воздух. Солнце скрылось за облаками, но тем не менее становилось все жарче. Ящерка раздула шею в яркий оранжевый шар.
Две длинноногие цапли, которых он поначалу принял за украшения лужаек, подняли головы, когда он проходил. Одна вдруг резко дернула головой и выпрямилась, а в клюве у нее болталась большая лягушка. Цапля, совершая глотательные движения, пыталась проглотить лягушку, а та лягалась и молотила лапками в воздухе.
– Ну хватит, – сказала миссис Хигглер. – Не отвлекайся. Достаточно того, что ты проворонил похороны собственного отца.
Толстяк Чарли подавил желание рассказать, каково это пролететь за один день четыре тысячи миль, арендовать автомобиль, проехать весь путь от Орландо, а потом перепутать съезд с шоссе, да и вообще, кому пришло в голову разбить сад упокоения за «Уол-март», на самой окраине города?
Они шли мимо большого бетонного здания, от которого несло формальдегидом, пока не достигли открытой могилы на самых задворках. Дальше не было ничего, кроме высокой изгороди, а за изгородью – бурные заросли деревьев, пальм и прочей растительности. В могиле лежал скромный деревянный гроб, на крышку кто-то уже бросил несколько горстей земли. Рядом с могилой была куча грязи и лопата.
Миссис Хигглер подняла лопату и протянула ее Толстяку Чарли.
– Хорошая была служба, – сказала она. – Кое-кто из собутыльников твоего папаши пришел, и все дамы с нашей улицы. Он хоть и переехал, мы друг друга не теряли. Ему бы понравилось. Хотя, конечно, ему бы больше понравилось, если бы и ты пришел. – Она покачала головой. – А теперь закапывай, – сказала она. – И если тебе есть что сказать на прощанье, скажи, пока забрасываешь его землей.
– Я думал, от меня требуется бросить одну, ну две лопаты, – сказал он. – Проявить участие.
– Я дала могильщику двадцатку, чтобы он ушел, – сказала миссис Хигглер. – Я сказала ему, что сын усопшего летит аж из самой Ханглии, и он бы хотел сделать все по правилам. Как нужно. А не просто «проявить участие».
– Ладно, – сказал Толстяк Чарли. – Так и есть. Заметано.
Он снял пиджак и повесил на изгородь. Потом расслабил галстук, снял через голову и положил в карман жилета. И начал забрасывать открытую могилу черной землей. Флоридский воздух был густым, как суп.
Через некоторое время пошло что-то вроде дождя, из тех дождей, что никак не могут определиться, идут они или нет. И если вы за рулем, то не можете решить, включать дворники или еще рано. А если не за рулем, и в руках у вас лопата, для вас это означает пот, еще раз пот и неудобство. Толстяк Чарли продолжал закапывать, а миссис Хигглер стояла, сложив руки на своей колоссальной груди, в темном платье и соломенной шляпке с шелковой розой, под моросящим почти-дождем, и наблюдала, как заполняется яма.
Земля превратилась в грязь и стала, пожалуй, тяжелее.
Казалось, прошла целая жизнь – и очень нелегкая – прежде чем Толстяк Чарли закинул последнюю лопату земли.
Миссис Хигглер подошла, сняла с изгороди пиджак и протянула Толстяку Чарли.
– Ты промок до нитки, весь потный и грязный, но прямо будто подрос. Добро пожаловать домой, Толстяк Чарли, – улыбнулась она и прижала его к безбрежной груди.
– Я не плачу, – сообщил ей Толстяк Чарли.
– Тише-тише, – сказала миссис Хигглер.
– Это все из-за дождя, – сказал Толстяк Чарли.
Миссис Хигглер не ответила. Она просто держала его, покачиваясь вперед и назад, и наконец Толстяк Чарли сказал: «Хватит. Мне уже лучше».
– Дома осталась еда, – ответила миссис Хигглер. – Давай я тебя накормлю.
На стоянке он вытер с ботинок грязь, после чего сел в серый арендованный автомобиль и, следуя за бордовым «универсалом» миссис Хигглер, поехал по улицам, которых двадцать лет назад еще не было. Миссис Хигглер вела автомобиль как женщина, которая собралась выпить крайне ей необходимую гигантскую чашку кофе, и при этом ее задачей было выпить его при максимально возможной скорости, а Толстяк Чарли ехал следом, держась за ней так плотно, как только мог, и, разгоняясь от одного светофора до другого, пытался хотя бы приблизительно прикинуть, где они находятся.
А затем они свернули, и с нарастающим дурным предчувствием он понял, что узнает это место. На этой улице он жил, когда был маленьким. Даже дома выглядели примерно так же, хотя вокруг большинства дворов выросли внушительные сетчатые изгороди.
Напротив дома миссис Хигглер было припарковано несколько машин. Он остановился за стареньким серым «фордом». Миссис Хигглер отперла ключом входную дверь.
Толстяк Чарли оглядел себя, грязного и потного, хоть выжимай.
– Я не могу в таком виде, – сказал он.
– Видала и похуже, – хмыкнув, ответила миссис Хигглер. – Значит так, идешь прямиком в ванную, умываешься, приводишь себя в порядок, а как закончишь – мы ждем тебя на кухне. Он прошел в ванную. Все здесь пахло жасмином. Он снял перепачканную рубашку, вымыл в маленькой раковине лицо и руки мылом с ароматом жасмина. Протер грудь полотенцем, оттер грязь с костюмных брюк. Оглядел рубашку – утром она была белой, а теперь стала грязно-коричневой – и решил ее не надевать. В сумке, на заднем сиденье арендованной машины, есть другие рубашки. Он незаметно выскользнет из дома, натянет чистую рубашку и уже после этого встретится с гостями миссис Хигглер.
Он щелкнул запором и отворил дверь ванной.
В коридоре, уставившись на него, стояли четыре старушки. И он их знал. Он знал их всех.
– Ну и что это ты делаешь? – спросила миссис Хигглер.
– Меняю рубашку, – сказал Толстяк Чарли. – Рубашка в машине. Да. Сейчас вернусь.
С высоко поднятой головой он прошагал по коридору и вышел на улицу.
– На каком это языке он говорил? – громко спросила крохотная миссис Данвидди за его спиной.
– Такое не каждый день увидишь, – сказала миссис Бустамонте, хотя если что на флоридском побережье каждый день и видишь, так это полуобнаженных мужчин – правда, чаще всего, не в грязных штанах.
Толстяк Чарли переоделся в машине и вернулся в дом. Четыре дамы были на кухне, они усердно перекладывали в пластиковые контейнеры еду, явно только что служившую угощением.
Миссис Хигглер была старше миссис Бустамонте, а обе они были старше мисс Ноулз, а миссис Данвидди была старше всех. Она была стара и выглядела соответствующе. Даже некоторые геологические эпохи, возможно, много моложе миссис Данвидди.
Мальчиком Толстяк Чарли представлял, как миссис Данвидди в Экваториальной Африке с неодобрением разглядывает сквозь толстые линзы очков только что выпрямившихся гоминидов. «Держись от моего двора подальше, – могла бы сказать она только что произошедшему и потому робкому представителюhomo habilis, – а не то уши надеру – мало не покажется». Пахло от миссис Данвидди фиалковой водой, а под фиалками скрывался запах очень старой женщины.
Она была маленькой старушкой, но взглядом, кажется, могла укротить бурю, и Толстяк Чарли, который два десятилетия назад забрался к ней во двор в поисках теннисного мяча и сломал одно из садовых украшений на лужайке, до сих пор порядком ее побаивался.
Сейчас миссис Данвидди ела козлятину с соусом карри, доставая руками кусочки из маленького контейнера. «Не выкидывать же», – сказала она, складывая косточки на фарфоровое блюдце.
– Не пора ли тебе поесть, Толстяк Чарли? – спросила мисс Ноулз.