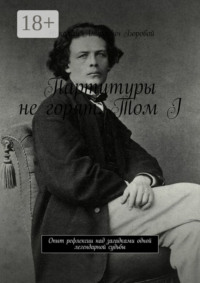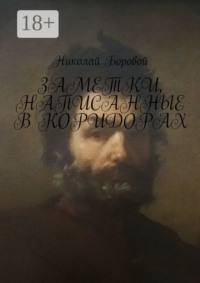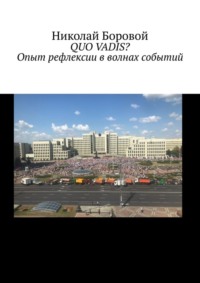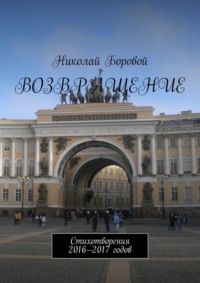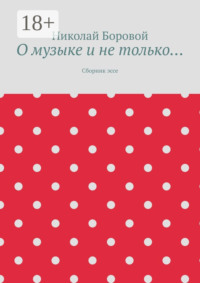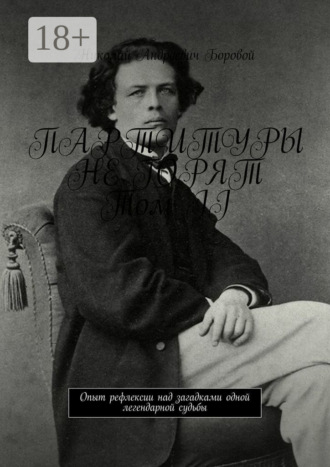
Полная версия
ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы
4
Все началось с оперы – именно в создании оперы на национальный сюжет, «фольклорные» музыкальные формы и обработка «фольклорных» мотивов, были обнаружены, и с художественной эффективностью использованы Глинкой как язык творчества музыки, в которой подобное «своеобразие» стилистики в этом случае соответствовало сути стоящих перед композитором целей и особенностям реализуемого им художественного замысла. Все верно – в написании оперы «Жизнь за царя», использование «фольклорных» форм и мотивов было найдено Глинкой как путь к созданию музыки, обладающей внятным «национальным своеобразием» звучания и стилистики, что в случае с разработкой подобного сюжета, было художественно оправдано и быть может даже востребовано. Вся проблема в том, что создание подобной музыки, «национально идентичной и своеобразной» за счёт концептуальных свойств стилистики, говоря иначе – музыки «стилистичной», стилистически тенденциозной и ограниченной, суть, и определяющие особенности и достоинства которой, сведены к «фольклорно-национальной характерности» ее стилистики, практически немедленно превращается в высший эстетический идеал и горизонт. Писаться, постулируется и утверждается, должна только такая музыка – вне зависимости от того, насколько это соответствует сущностным целям и горизонтам музыкального творчества, в какой мере подобные стилистические особенности музыки могут служить в ней целям наиболее глубокого и полного самовыражения, экзистенциально-философского, и затрагивающего самые сокровенные нравственные переживания личности диалога, философского осмысления мира во всем многообразии его проявлений. Собственно – «национально-стилистическое своеобразие» музыки, достигаемое за счёт ее создания на основе материала и языка «фольклорных форм», становится чем-то эстетически самодостаточным и самоценным, тем на деле, что тождественно в ней «прекрасному», подменяет или отодвигает на второй план в шкале эстетических приоритетов все сущностное, обозначенное выше. Все дело именно в том, что идеал создания «национально идентичной и своеобразной», стилистически ограниченной музыки, «всеобъемлюще национальной» как искусство, став господствующим, обернулся сущностной ограниченностью и национальной замкнутостью музыкального творчества, отдаленностью такового от тех целей самовыражения личности и художественно-философского осмысления мира, которые подразумевают его универсализм и сопричастность общекультурному полю, диалогичность, сюжетно-тематическую и стилистическую широту. Вопрос не ставится о том, насколько «фольклорно-стилистическое своеобразие» музыки служит осуществлению таких высших и сущностных целей музыкального творчества, как символизм, правда и глубина самовыражения, художественно-философское осмысление мира в многообразии такового – это «своеобразие» мыслится и ощущается в музыке эстетически самодостаточным и самоценным, тождественным «прекрасному», выступает тем, фактически, во имя чего музыка вообще и создаётся. В дилемме приоритетности в музыке своеобразия стилистики и достигаемой с его помощью «национальной идентичности», в целом «фольклорно-национального» и «стилистического», или же художественного символизма, смысловой глубины и многогранности, пронизанности самовыражением и откровениями философского, ответ для эстетики, формирующейся в недрах «стасовского круга», и де факто господствующей в пространстве русской музыки «золотого века», достаточно очевиден. Очевидность состоит в том, что для этой эстетики, и как такового пространства русской музыки обсуждаемого периода, находящегося под ее мощнейшим и концептуальным влиянием, «фольклорное» и «национальное» обладает в музыке высшей художественно-эстетической ценностью, тождественно «прекрасному» и потесняет в шкале эстетических приоритетов «все остальное». Писаться должна не музыка, смыслово глубокая, пронизанная философскими идеями и откровениями, исповедью и самовыражением, и именно этим «прекрасная», во всем этом обладающая силой нравственно-эстетического воздействия на слушателя, способностью вовлекать его в экзистенциальный диалог. Должна писаться и создаваться «русская» музыка, обладающая внятным фольклорным своеобразием стилистики и за счёт этого «национально идентичная» – это является главным, а насколько это способствует смысловой глубине и выразительности, символизму музыки, широте философского осмысления ее средствами и возможностями мира, не столь важно, хотя очевидно, что стилистическая ограниченность музыки становится ее сущностной ограниченностью, «национальной» ограниченностью и замкнутостью, ограниченностью в самых сущностных целях ее творчества, в горизонтах выражения, сюжетов и художественных замыслов. Стилистические свойства музыки – именно «фольклорная» концептуальность стилистики мыслится призванной олицетворять национальную идентичность и сопричастность музыки – превращаются в «камень преткновения», в мерило художественной ценности музыки. Очень быстро художественно удачный и оправданный опыт создания внятно национальной и стилистически своеобразной, «русской» музыки, превратился в догму, в идеал создания только такой музыки, в установку, замыкающую на себе цели и горизонты музыкального творчества. Гегемония этой установки обусловила отдаление музыкального творчества от самых сущностных целей и горизонтов – художественно-философское осмысление и «освоение» мира во всем многообразии такового, глубина и правда экзистенциально-философского самовыражения, ибо следование таковым означало универсализм музыкального творчества, и подразумевало его сюжетно-тематическую и стилистическую открытость, исключало его национальную и стилистическую ограниченность, приоритетность в нем аспектов и дилемм стилистики в целом. Обратим внимание на то принципиально порочное, чем обратился идеал всеобъемлющего творчества национально и стилистически «своеобразной», «фольклорной» по языку музыки, что стало определяющими и негативными особенностями русской музыки второй половины 19 века, по крайней мере – в ее «титульных» процессах и тенденциях. Стремление к национально-стилистическому своеобразию русской музыки, замыкание музыкального творчества на этом как высшей цели, превратилось прежде всего в отрицание стиля европейской романтической музыки, ее «классического» наследия и данных в нем музыкальных и жанрово-композиционных форм, институтов профессионального образования, призванного погружать в наследие и приобщать заключённому в нем опыту – «фольклорная» музыкальность, ее мотивы, ритмические и ладно-гармонические особенности, постулируются как единственно приемлемый для русского композитора язык и инструмент творчества. В свою очередь, из этой определяющей облик русской музыки и музыкальной эстетики второй половины 19 века «догмы», вытекли принципиальные противоречия. Дело даже не в том, что стилистическая ограниченность, и в целом доминирование в творчестве и определяющем таковое эстетическом сознании дилемм и аспектов стилистики, превратились в сущностную ограниченность музыкального творчества – в целях, возможностях и смысловых горизонтах выражения, в горизонтах сюжетности и художественных замыслов (широчайший спектр замыслов и сюжетов оказывался попросту недоступен художественно-стилистическому инструментарию и языку, которыми ограничивалось творчество русского национального композитора), в принципе стали отдалением музыкального творчества от исканий в русле его превращения в способ самовыражения и философского осмысления мира и человека. Дело в том, что подобные предрассудки и догмы, «антиевропейские» настроения, включающие яростное неприятие европейского музыкального стиля и наследия, обернулись отдалением русской музыки от колоссальнейшего опыта творчески-музыкального мышления, накопленных в этом опыте музыкальных жанровых и композиционных форм, и потому же – от широчайших и сущностных возможностей музыкального творчества. Прежде всего – сознание и установки «кучкистского» круга отрицают большинство принятых в европейской музыке и традиционно устоявшихся жанров, в русле которых происходит вдохновенное творчество, от сонат и прелюдий до инструментальных концертов, которыми фактически мыслит и творит европейское музыкальное мышление. Как следствие этого, наследия и опыта творчества в этих жанрах, композиторы-«кучкисты» либо вообще не оставляют, либо сделанное ими в таковых по своему уровню плачевно, а ведь речь идёт о тех жанрах, благодаря укоренению которых в пространстве русской музыки, состоялись ее выдающиеся свершения. Основными для самобытной русской музыки считаются жанры симфонии и оперы, то есть как раз те, в которых замкнутость музыкального творчества на «национальной» сюжетности и тематике, на ограниченной «фольклорно-национальной» стилистике, наиболее очевидна как возможность и оправдана. Обольщаться не стоит – симфонии интересуют «кучкистов» не как философско-экзистенциальные эпосы, не как музыкальная форма философствования о мире и человеке, не как полотна, из глубины которых происходит обращение мысли и духа к «последним» и «вечным» вопросам, к загадкам и противоречиям, вызовам и явлениям настоящего. Говоря иначе – вовсе не в колоссальных возможностях символизма и экзистенциально- философского самовыражения, присущих этому жанру. Симфонии интересуют «кучкистов» как живописные зарисовки в «фольклорной» стилистике, на «фольклорные» и «национальные» сюжеты, философско-экзистенциальный символизм и метафизический пафос и масштаб, трагизм и экстатическое выражение экзистенциального опыта, привносятся как горизонт в симфоническое творчество рубинштейновским кругом композиторов, и только через него приходят в музыку даже не самих «кучкистов», а их последователей. Фактически – отдаленность от данного в «классическом» наследии опыта, становится ограниченностью возможностей даже в достижении тех ключевых целей, которые «кучкисты» ставят перед собой: в обработке и развитии «фольклорных» мотивов, превращении таковых в символичные образы и темы произведений, в создании «фольклорно своеобразной» музыки в разных жанрах. Обратим внимание, что большинство произведений «кучкистов» – отставим в сторону даже сущностную и художественную, жанрово-стилистическую и сюжетную ограниченность их творчества – остались в принципе незаконченными: речь идёт о творчестве аматоров, вдохновленных ограниченными и «националистическими» по характеру эстетическими идеалами, при более критической оценке вполне могущими быть названными предрассудками, программно отрицавших перевод музыкального творчества на профессиональный и высокий художественный уровень со всем тем, что это означало. Точнее – с уровнем стоящих перед музыкальным творчеством дилемм, задач и исканий, с широтой горизонтов художественных целей и замыслов, с глубоким обращением к общему, «классическому» музыкальному наследию и использованием заданных в таковом форм, принципов, опыта и возможностей. Речь шла об аматорах, движимых националистически ограниченными эстетическими установками, более похожими на предрассудки, программно отгораживающихся от приобщения уровню дилемм и задач, исканий и художественно-эстетических идеалов, которые стоят в этот период перед мировой музыкой, наследию и опыту этой музыки, и потому же – непричастных самым сущностным, принципиальным и колоссальным возможностям музыкального творчества, заключающим в себе таковые жанрово-композиционным формам и руслам, принципам мышления и композиции и т. д. Речь шла об аматорах, которых интересовало создание «всеобъемлюще национальной» по характеру, «национально идентичной» за счет стилистического своеобразия и «фольклорности» музыки, сущностно и художественно, сюжетно и стилистически ограниченной как искусство музыки, и потому же – в гегемонии их установок и предрассудков отдалявших музыкальное творчество от самых важных и принципиальных его возможностей, от призванного служить его фундаментом опыта, от подлинного уровня стоящих перед таковым дилемм и задач, исканий и горизонтов. Если бы не творческая и просветительская, движимая тенденциями диалога и универсализма, европейско-романтической сопричастности деятельность Рубинштейна, поистине «титаническая», и в развитии и становлении русской музыки восторжествовали бы идеалы и установки «кучкистского» круга, она так бы и осталась тем, чем собственно ее и замысливал этот круг – «национально замкнутым», подчиненным ограниченным «националистическим» идеалам, стилистически и жанрово, сюжетно ограниченным искусством, не ведающим самых сущностных возможностей, горизонтов исканий и целей музыкального творчества и искусства в целом. Говоря иначе – оставалась бы непричастной самым сущностным возможностям музыкального творчества, основным жанрово-композиционным формам как руслам вдохновенного творчества, в которых в конечном итоге и состоялись ее самые знаковые и великие художественные свершения. Если бы все это было так, то расслышать в музыке русских композиторов что-либо, кроме пресловутого и вожделенного, чуть ли сакрализуемого, ставшего банальным и набившим оскомину уже в первом поколении «фольклорно-национального своеобразия», было бы не возможно. Симфонии и концерты Чайковского и Рахманинова, выдающееся камерное творчество этих композиторов, свидетельствующее композиционную искушенность в построении, ощущении и использовании камерных форм, превращение таковых в формы философствования и глубочайшей экзистенциальной исповеди, очень многое иное, состоялись в русской музыке только благодаря тем фундаментальным тенденциям романтическо-экзистенциального и философского универсализма и диалога с «наследием», которые утвердил творчеством и просветительской деятельностью в ее пространстве Рубинштейн. Чтобы понять роль и значение фигуры Рубинштейна в становлении русской музыки, нужно не просто честно и полно обозначить то на уровне идеалов и фундаментальных тенденций, направлений и горизонтов развития, вдохновенных образцов творчества, что привнес в нее композитор – нужно так же представить глубину, силу и порочность предрассудков, в противостоянии которым это произошло, а так же последствия всеобъемлющего торжества этих предрассудков, буде таковое бы состоялось. Так не по этой ли причине фигура и творчество А. Г. Рубинштейна подвергались в том числе и в советский период, программному остракизму и забвению, нивеляции? Не потому ли, что на фоне этой фигуры и ее разностороннего, в том числе и композиторского наследия, выглядят малыми и нередко консервативно-ограниченными и негативными фигуры тех композиторов-«кучкистов», которых идеология от эстетики превращала в «корифеев»? Фактически – во власти эстетических догм и предрассудков «кучкистского» круга, русская музыка оставалась бы не причастной самым ключевым и «трепетным» для мировой музыки горизонтам исканий, разрешаемых дилемм и задач, самым сущностным идеалам и возможностям музыкального творчества, и если она стала сопричастной таковым, и в этом достигла непреходящих по значимости свершений, то только потому, что в борьбе и противостоянии, вопреки торжествующим предрассудкам, таковые были привнесены в ее пространство Рубинштейном и его последователями.
Факт в том, что обнаруженная Глинкой возможность создания стилистически своеобразной, «фольклорной» по языку музыки, наложилась на стремление к «национальной идентичности» русской музыки как таковой, к ее инаковости в отношении к музыке европейской, переплавилась с вызревающим взглядом на русскую музыку как искусство «национально замкнутое и обособленное» (подобное отождествляется с «самобытностью»), «всеобъемлюще национальное», собственно – она становится для подобных тенденций и стремлений основанием, аккумулирует их в себе и достаточно быстро превращается в доминирующую на горизонтах национального композиторства цель. Отныне и навсегда должна создаваться музыка, за счёт языка «фольклорных» форм, обладающая национально-стилистическим своеобразием, стилистически концептуальная и ограниченная в равной мере. Отныне и навсегда «фольклорная» музыкальность, ее мотивы, ее ритмические и ладно-гармонические особенности, призваны служить «фундаментом» и «почвой», чуть ли не единственным художественным языком и инструментом национального композиторства – парадигма русской музыки как музыки стилистически своеобразной и ограниченной, «самобытной» за счёт «национальной замкнутости» и «фольклорности» стилистики, доминирования «национального» сюжетно-тематического ряда, становится программным и яростным отрицанием «универсального» стиля европейской романтической музыки, «классического» наследия и ретранслируемых таковым музыкальных и жанрово-композиционных форм. Собственно – во всем означенном прочитывается внятное влияние на область музыкального творчества общих для русской культуры тенденций национализма и «народничества», «борений идентичности», идей славянофильства и антизападнических настроений, чуть ли не в «передовую» которых превращается становящаяся русская музыка, и возможность достижения «национального своеобразия» музыки за счёт «фольклорной» концептуальности и ограниченности ее стилистики, в известной мере аккумулирует подобные тенденции и процессы, становится фактором и руслом, на основе которых таковые обретают облик догматичной, всеобъемлющей художественно-эстетической парадигмы. Универсализм музыкального творчества, экзистенциально-философский по истокам, определяющая его тенденция общекультурной сопричастности, его сюжетно-тематическая и стилистическая широта – все то, что несут с собой в пространство русской музыки Рубинштейн и ретранслируемая композитором «романтическая» эстетика, оказываются в этой ситуации поистине трагически диссонирующими с «титульными» для русской музыки парадигмами «всеобъемлющей национальности» и «национальной замкнутости», стилистического своеобразия. Рубинштейн обращается к «фольклорным» музыкальным формам и использованию их выразительных возможностей, а так же к разработке национальных сюжетов, на самых ранних этапах творчества, свидетельствуя этим органичную сопричастность такового его «национальным истокам», «культурно-национальному» контексту. Вся проблема в том, что в «романтическом», экзистенциальном и философском по истокам универсализме своего творчества, в сущностной вовлечённости такового в общекультурное поле, национальная сопричастность творчества никогда не могла бы стать для композитора его «национальной замкнутостью» и «всеобъемлющей национальностью», стилистической ограниченностью, как само создание стилистически и национально «своеобразной» музыки, конечно же не могло превратиться для Рубинштейна в «самодостаточную» и «высшую» художественную цель, подменив собою самовыражение, философское осмысление и «освоение» средствами и возможностями музыки бесконечно многообразного в проявлениях мира. Безусловно, что такой «высшей» и «самодостаточной» целью не могло стать для композитора и использование «фольклорных» форм – таковые интересуют его лишь как язык и средство выражения, в их возможностях в привнесении в музыку символизма и художественно-смысловой выразительности и глубины, в то время как круг «кучкистов» мыслит обращении к таким формам и творчестве ими нечто «эстетически самодостаточное и самоценное». Таков в целом подход романтизма к «национальным истокам» и культурно-национальному контексту музыкального творчества, к использованию в нем «фольклорно-национальных» элементов, и именно поэтому «фольклорно-русская» стилистика так и не станет для Чайковского, при всей глубине ее художественного ощущения и обращения к ней, единственным и «всеобъемлющим» музыкальным языком, и поэтому же его творчество познает на себе значительные отголоски остракизма и неприятия, обвинений в «нерусскости», которые испытало творчество Рубинштейна, его великого учителя и сподвижника.
5
Во впитанной им в молодости, в годы становления, и вдохновлявшей его на протяжении всего творческого пути эстетической парадигме, композитор был обращен в творчестве к правде и глубине самовыражения, к решению сущностных, связанных с этим эстетических задач, он просто не усматривал в дилеммах формы и «национального своеобразия» чего-то сущностного, эстетически самодостаточного – таковые интересуют его лишь в отношении к самовыражению как главной цели, в способности в той или иной мере послужить ей. Конечно же – в той «романтической» универсальности своего творчества, которая означала прежде всего не владение «универсальным» языком с широтой возможностей такового, а экзистенциальность творчества, его обращенность к личности и нацеленность на правду экзистенциально-философского самовыражения, композитор оказался трагически и принципиально чужд пространству русской музыки, озадаченному в этот период, подобно пространству национальной культуры в целом, дилеммами «идентичности», и потому же – дилеммами «форм» и «стилистики», «национального своеобразия» музыкального творчества и используемого в творчестве художественного языка. С точки зрения Рубинштейна, музыка должна говорить тем языком, который необходим ей в решении сущностных эстетических задач, то есть – не должна быть ограничена в языке и парадигме средств выразительности, эта главная установка читается в самом творчестве композитора, причем на протяжении всего его творческого пути. Ведь с лет становления до лейпцигской старости, композитор сочетает в творчестве внимание к «национально своеобразным» формам и использование таковых адекватно художественным задачам, со вдохновенным, полным истинных свершений, творчеством на «романтически универсальном» языке. Зачастую – знаковые произведения в этих разных ключах средств выразительности и художественных языках, он создает почти одновременно: симфонические поэмы «Дон Кихот» и «Иван Грозный» были закончены с разницей в один год, ор.97 композитора – это его программно «русский», полный органичного и глубоко «национального своеобразия», Второй виолончельный концерт, а ор.99 – обсуждаемый здесь второй фортепианный квинтет, включающий в себя национальные вкрапления, но в целом, написанный «универсальным» языком и могущий служить совершенным образцом музыки как «романтического», экзистенциально-философского самовыражения, «бетховенской» мощи музыки, означающей единство эмоционально-нравственной и философской глубины самовыражения с правдой, экспрессией и экзистенциальностью такового. Второй виолончельный концерт – эталон полного прелести и проникновенного лиризма исповеди, говорящего «национально своеобразным» языком, квинтет – трагического и философского пафоса, духа «вселенской борьбы», говорящих языком столь же «универсальным», сколь совершенным по выразительности и силе воздействия. Вот так вот – в разных художественных парадигмах, композитор творит почти одновременно и на протяжении всего творческого пути, от произведений концертно-симфонических до камерных, нет ни одного альбома его сольных пьес для фортепиано, от «Каменного острова» до «Сувенира из Дрездена», где полная правды и вдохновенности экзистенциальная исповедь в произведениях на «универсально-романтическом» языке, не говорила бы и изумительными вкраплениями тех произведений, которые звучат на языке органично и самобытно «национальном». Рубинштейн умел писать «по-русски», просто он умел писать не только «по-русски» и владел разными музыкальными языками, и искренне не понимал, почему нужно писать «только по-русски», и почему вдохновенная по живости и выразительности языка, содержательная и глубокая по смыслу, могучая по силе воздействия музыка, лишенная при этом внятного «национального своеобразия» форм, должна быть нивелирована в ее ценности. Да – чем дальше, тем больше, композитор привносит «национальное своеобразие» в музыку: русский композитор должен звучать «по-русски», эта ставшая эстетическим лозунгом эпохи стасовская догма, висит над ним как дамоклов меч, как обвинение и отрицание, как угроза забвения. А что же делать, когда «национально своеобразным» языком не возможно выразить того, что необходимо выразить, когда он непригоден для решения тех или иных творческих задач, не позволяет самовыражению состояться? Отказаться от «задач» и «самовыражения»? Входя в круг великих европейских композиторов в годы молодости, Рубинштейн вбирает в себя главную установку, определившую его творчество, и привнесшую трагические противоречия в его судьбу – главным и сущностным в музыкальном творчестве является правда и глубина самовыражения, с этим связаны сущностные эстетические и творческие задачи, самовыражение должно происходить именно тем языком и той палитрой средств выразительности, которые необходимы. В его эстетическом сознании именно по этой причине не могла утвердиться установка на «национальное своеобразие» музыкального языка как самодостаточную цель. А могла бы такая установка быть верной, к примеру, для Шопена, с его длящейся до последних вздохов исповедью фортепианными звуками, превращающей вальс в вопль удушливого ужаса перед близкой смертью, ноктюрн – в щемящий плач тоски? Ну не абсурдно ли? Так был ли Рубинштейн «виновен» в том, в чем его обвиняли всю жизнь и столетие после смерти? Вообще – может ли подобное быть поставлено «в вину»?