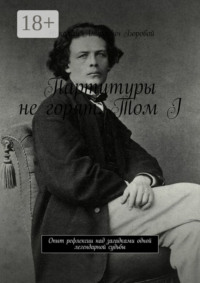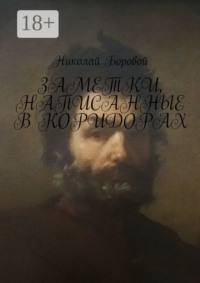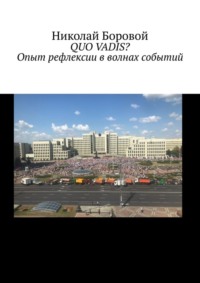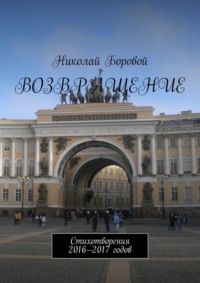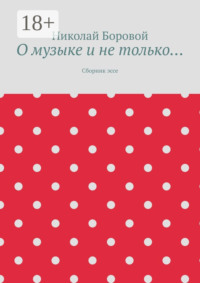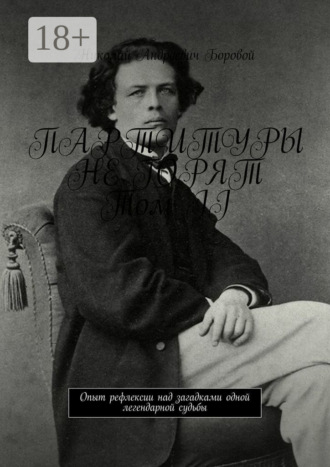
Полная версия
ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы
Дилемма «идентичности» композитора и его творчества, национальной и художественной, была поставлена в судьбе и творчестве Рубинштейна чуть ли не символически, фактически – она прошла через весь его творческий путь «красной линией», стала трагическим конфликтом его композиторской судьбы, трагедией отверженности его творчества и творческого наследия. Факт в том, что сам композитор, со всеми определяющими особенностями его творчества, без сомнения ощущал себя русским художником, частью становящейся русской национальной музыки, более того – длительное время был «лицом» этой музыки для европейской музыкальной культуры, и превратил в такое же «лицо» романтически-экзистенциального и универсального в характере творчества П.И.Чайковского. Собственно, из самых истоков творчества, и на протяжении всего творческого пути, композитор свидетельствовал сопричастность национальным истокам своего творчества, разностороннюю связь с культурно-национальным «лоном» такового – это выражалось и во внимании к «национальным» по характеру сюжетам, и в очень рано произошедшем обращении композитора к использованию «фольклорных» музыкальных форм, ритмических и ладно-гармонических особенностей народной музыкальности. Таковые начинают присутствовать в самых ранних его произведениях, значительно раньше, чем композиторы «могучей кучки», впоследствии возведённые в ранг «корифеев» русской национальной музыки, обращаются к их использованию и вообще к полноценному музыкальному творчеству. Симфоническая музыка начинает звучать у Рубинштейна «по-русски», с глубоким художественным ощущением и утонченным использованием выразительных возможностей «фольклорных форм», гораздо раньше, чем у «корифеев» – в Третьей симфонии, написанной в 1857 году (достаточно вспомнить, что единственную попытку написать одночастную симфонию, М. Глинка осуществил в «итальянской» манере, а русская по стилистике, Первая симфония Римского-Корсакова, появится на свет лишь семь лет спустя). Если же говорить о серенаде из ор. 22, то музыку, настолько подлинно «русскую», пронизанную глубиной самовыражения и ощущения «фольклорных форм» как языка такового, в творчестве «корифеев» возможно встретить совсем не часто. Вовсе не часто у апологетов «фольклорности» и характерных для нее музыкальных форм, такие формы, или достаточно откровенная обработка «фольклорных» мотивов, становятся символичным, вдохновенно-поэтичным и выразительным языком для сложных смыслов эмоционально-нравственного, экзистенциального и философского плана. К великому сожалению, «фольклорные» формы и мотивы, нередко привносятся композиторами «могучей кучки» в музыку довлеюще и «художественно самодостаточно», а не как совершенный и глубоко прочувствованный язык и инструмент выражения, что и не удивительно, ведь «национальное» и «фольклорное» мыслится ими прекрасным и ценным в музыке «само по себе», превалирует в их установках над художественно-эстетической ценностью самовыражения, его глубины и правды, возможностей философского осмысления мира в музыке. О том, насколько Рубинштейн ощущал себя русским художником и композитором, а свое творчество – глубоко связанным с пространством русской культуры, музыкальной и в целом национальной, отдельно и бесспорно говорят его просветительские усилия, объемлющие как создание и развитие системы профессионального музыкального образования в России, так и последовательное, утверждаемое в противостоянии, обращение к диалогу с европейской музыкой, ее наследием, идеалами и горизонтами, исканиями и выдающимися свершениями ее романтического настоящего. Все в творчестве и просветительской деятельности Рубинштейна говорит о том, что он ощущает глубокую, неразрывную связь с Россией и русской культурой, что романтическо-экзистенциальный универсализм творчества и эстетического сознания, глубокая и сущностная «европейско-романтическая» сопричастность такового, никоим образом не противоречат в нем его «национальной», «русской» идентичности как художника – на протяжении всего пути, при внятном свидетельствовании и сохранении, последовательном углублении связей творчества с «национальными» истоками, Рубинштейн не отделяет одного и другого, русская музыка ощущается им неотъемлемой частью музыки европейской и де факто общемировой, стоящей перед теми же художественно-эстетическими дилеммами, обращённой к тем же идеалам, целям и горизонтам исканий. Рубинштейн ощущает себя глубоко связанным с Россией, с пространством русской музыки и культуры, однако «не так», как это навязывается и предписывается, в соответствии с художественно-эстетическими идеалами и установками, отличными от постулируемых в качестве «единственно приемлемых» для русской музыки, привнося в нее те горизонты и пути развития, тенденции и веяния, которые в течении жизни композитора объявляются для русской музыки «чуждыми» и программно, яростно отвергаются. В этом, собственно, и заключался корень проблемы, поскольку то, что было для Рубинштейна едино и неразрывно – национальная сопричастность музыкального творчества и его универсализм, романтичность, сущностная вовлеченность в общекультурное поле и как таковое пространство европейской и мировой музыки – программно, яростно разводилось и противопоставлялось в той модели художественно-национальной идентичности, которая в течение всей жизни композитора навязывается русской музыке, а в отношении к тому, к глубокому диалогу с чем композитор последовательно обращал, в этот период торжествует радикальное и почти «сакральное», обосновывающее идентичность и эстетическое сознание, отторжение. Римский-Корсаков, первым из композиторов «могучей кучки» решившийся перешагнуть через стены предрассудков и барьеры отторжения в отношении к европейской музыке, ее наследию и стилю, и обратившийся к изучению «классических» музыкальных и жанрово-композиционных форм, созданию в их русле музыки, звучащей как «европейская», немедленно заслужил эпитет «бездушного изменника» и «надевшего парик профессора», написанное же им – «слякотного наваждения»: антиевропейские настроения, нередко обращающиеся смехотворными и «мракобесными» предрассудками, носят в «титульно русской» музыке в этот период программный, яростный и чуть ли не «сакральный» характер. Все дело именно в том, что композиторским творчеством и просвещением Рубинштейн нес как раз те веяния, влияния и тенденции, «программное» отрицание которых в этот период насаждается в особенности, которым по сути противоставляется русская музыка в ее национальной и художественной идентичности. Русская музыка мыслится «стасовским кругом» национально идентичной в той же мере, в которой стилистически своеобразной, национально ограниченной и замкнутой, подчиненной эстетическим идеалам «национального» толка, идентичной и самобытной именно на основе ее программного противоставления музыке «европейско-романтической» и погруженности в «фольклорность» как язык и инструментарий, почву и истоки музыкального творчества. Фигура же Рубинштейна несла с собой нечто прямо противоположное – универсализм и общечеловечность музыкального творчества, его общекультурную сопричастность, стилистическую и сюжетно-тематическую открытость, приоритетность в нем сущностного, экзистенциально-философского и связанного с самовыражением, над «национальным» и «стилистическим», то есть – то, что объемлемо понятием «романтичности» музыкального творчества и подразумевало глубокий диалог русской музыки с музыкой европейской, ее наследием и «романтическим настоящим». Более того – все эти тенденции и веяния сочетались в творчестве и эстетическом сознании Рубинштейна с национальной сопричастностью и идентичностью музыкального творчества и композитора, национальная музыка, в ее сути и идентичности, обращалась им именно к таким целям и идеалам, тенденциям и горизонтам развития, в чем состояла наибольшая, исходившая от этой фигуры угроза. Внешне может показаться, что в перипетиях его судьбы, в его национальной и художественной идентичности как композитора, Рубинштейн «метался» и был раздираем между мирами русской и европейско-романтической музыки, однако, на самом деле это не так – композитор был «дуидентичен» в его творчестве и эстетическом сознании, «национально-русская» и «европейско-романтическая» сопричастность не противоречили в нем и его творчестве друг другу. Рубинштейн не переставал быть «европейским» и «романтическим» композитором, когда создавал симфоническую поэму «Россия», Второй виолончельный концерт и «Русское каприччо», и русским – пишучи многочисленные, пронизанные экзистенциально-философским самовыражением произведения в «романтической» стилистике и на сюжеты из общекультурного поля. В этой же, «органично двойственной» идентичности творчества, композитором был воспитан и Чайковский, в фигуре и творчестве которого отвергалось то же самое – романтическо-экзистенциальный универсализм, сопричастность общекультурное полю и «наднациональность», стилистическая и сюжетно-тематическая открытость. Чайковский не переставал быть «русским» композитором в Пятой и Шестой симфониях, в «Манфреде» и «Ромео и Джульетте», а «европейско-романтическим» и «мировым» – в фортепианных концертах, и в подобной органичном единстве в его творчестве «универсального» и «общечеловеческого» с «национальным», «европейско-романтической» сопричастности – с «русской», Чайковский был воспитан именно Рубинштейном. «Романтическая» парадигма музыкального творчества в той же мере подразумевала общечеловечность и экзистенциально-философским универсализм такового, в которой не противоречила его сопричастности «национальным» истокам, позволяла органично впитывать и использовать в нем самые разнообразные национальные элементы, ставя таковые на службу сущностным художественно-эстетическим целям. «Русское» и «европейско-романтическое» противопоставлялось и разводилось только в той модели эстетического сознания и художественно-национальной идентичности музыкального творчества, которая навязывалась «стасовским» и «кучкистским» кругом, прежде всего – под влиянием общих для русской культуры этого периода тенденций и процессов национализма, борений идентичности, включавших «антизападнические» настроения (стасовский круг был олицетворением таковых), а так же вследствие отождествления «национальной идентичности и сопричастности» русской музыки с «фольклорным своеобразием» и ограниченностью ее стилистики. Основной упрек, и доныне предъявляющийся Рубинштейну, затрагивает именно то, что композитор позволял себе творчество в «универсальной», «романтической стилистике», якобы неприемлемой для русского композитора и национальной музыки, что в стилистике «фольклорно-национальной», предписываемой в качестве чуть ли не единственного художественного языка и инструмента, он создавал якобы недостаточно. «Фольклорно-своеобразная», концептуальная и ограниченная стилистика, мыслится неким «маркером» русской музыки, основой и олицетворением ее национальной идентичности, предписывается ей чуть ли не в качестве единственного и всеобъемлющего языка, Рубинштейн же привносит в ее пространство творчество в стилистике «романтической» – «обобщенной», «национально отстраненной» и «универсальной»: в этом заключена одна из главных причин, по которым творчество и деятельность композитора оценивались как «чуждые русской музыке», программно отвергались. В случае с отношением к творчеству Рубинштейна мы сталкиваемся с тем и знаковым, и парадоксальным, и принципиально порочным феноменом, когда ценность музыки – к слову, пронизанной символизмом, глубиной и правдой экзистенциально-философского самовыражения – априори отрицается и нивелируется по причине ее стилистической инаковости: сам этот факт ёмко раскрывает суть и характер противоречий в русской музыкальной культуре второй половины 19 века, в господствующем в ее пространстве эстетическом сознании. Гениальный его проникновенной выразительностью и вдохновенной поэтичностью октет Рубинштейна, ор. 9, безусловно не является «русской» музыкой, в том значении, которое придается этому понятию стасовским и кучкистским кругом на протяжении всего обговариваемого периода – музыка произведения «эталонно романтична» в плане и стилистического языка, и принципов композиции, в ней отсутствует какая-либо обращенность к «фольклорным» формам и их использованию. Однако – хоть и возмутительно, и где-то чудовищно представить, что эта проникновенная и вдохновенная, полная экстазом самовыражения и экзистенциально-философским символизмом музыка, могла быть сочтена «не русской» в смысле ее чуждости и неприемлемости для пространства национальной музыкальной культуры, отсутствия права на признание и будущее в таковом, что по причине ее стилистической «инаковости» и «национальной отстраненности», она могла быть заклеймена «пошлостью», фактическое положение вещей и доныне обстоит так. Описываемая дилемма «идентичности» была навязана судьбе и творчеству композитора извне —музыкальной средой, находящейся во власти аффектов национализма в той же мере, в которой и зачастую «мракобесных» художественно-эстетических предрассудков, собственно – основным в отношении к творчеству композитора и до сих пор является обвинение в «нерусскости» или «недостаточной русскости». «Романтическая» музыка, созданная композитором, постулируется как то, что в принципе чуждо и неприемлемо для национальной музыкальной культуры, а «русской» музыки им создано якобы мало, и в большинстве случаев она якобы лишена подлинности и убедительности, не обладает достоверностью «национально-стилистического своеобразия» – таковы набившие оскомину обвинения и шоры восприятия и оценок, однако тем истинным, что кроется за ними, являются в основе порочная парадигма русской музыки как музыки «стилистичной», стилистически своеобразной и ограниченной, продиктованная этим нетерпимость к «стилистически иному», и вызывавшее ярость вдохновенное и талантливое сочетание композитором в творчестве «разных» стилистических языков. Догматическими являлись не только общие взгляды «стасовско-кучкистского» круга на национальную музыку, ее цели, пути и горизонты развития – таковыми были взгляды и на ее «национальное своеобразие» и средства достижения такового, на ее «русскость», то есть на сам «национальный музыкальный характер» и те формы, которые правомочны олицетворять его. Рубинштейн конечно же ощущал себя русским художником, был им и стремился быть, однако – «не так», как предписывается в этот период в господствующих эстетических установках, как ставится дилемма «национального» композитора и художника, «идентичности» музыкального творчества. Все дело состояло, собственно, в том, что композиторское творчество Рубинштейна, сформировавшееся и происходившее в романтической парадигме, вобравшее в себя «классический» романтический стиль и такие ключевые особенности романтической музыки, как универсализм, обращенность к горизонтам экзистенциально-философского самовыражения и художественно-философского осмысления мира, сюжетно-тематическая и стилистическая открытость, не вмещалось в ту тенденциозно-догматичную, националистически ограниченную модель художественной и национальной идентичности, которая навязывается русской музыке во второй половине 19 века. В этом состоит причина, по которой пресловутая «дилемма идентичности», трагически и бескомпромиссно ставилась в отношении к творчеству композитора и при жизни, и в течение более чем века после смерти, а обвинение его творчества в «нерусскости» было и остаётся предрассудком-клише и циничной уловкой, обосновывающей отрицание и нивеляцию такового. Собственно – те же уничтожающие претензии и упрёки, обвинения в «нерусскости творчества», которые предъявлялись Рубинштейну и были предназначены оправдать и обосновать отрицание его творчества, могли быть выдвинуты в отношении ко многим композиторам, формальной конвой творчества и судьбы связанным с пространством русской музыки, к примеру – Давыдову и Вейнявскому (оба, благодаря Рубинштейну, профессора Петербургской консерватории). Вся проблема состоит в том, что оба эти композитора и не воспринимались как «русские художники», а потому – к их творчеству не предъявлялись те ограничивающие и нередко мракобесно абсурдные, «националистические» и «социо-культурные», а не «эстетические» по истокам требования, с которыми в господствующих и навязанных стасовско-кучкистским кругом установках, связывается национальная и художественная идентичность русского композитора и его творчества, кроме того – никто из композиторов, работавших в «универсалистской» и «европейско-романтической» стилистике и манере, парадигме музыкального творчества в целом, не обладал такой мощью, глубиной и концептуальностью влияния на мир русской музыки, как Рубинштейн. Влияние Рубинштейна – творческое, идейно-художественное и просветительское, мощь и масштаб такового – вот, что вызывает чувство угрозы и побуждает программно отрицать творчество и деятельность композитора, ведь несомое им на уровне тенденций, идеалов и горизонтов – универсализм и общекультурная сопричастность, сюжетно-тематическая и стилистическая широта музыкального творчества, наиболее отвергается в этот период господствующими и догматично утверждающими себя в пространстве русской музыки эстетическими установками.Рубинштейн нес своим творчеством и просветительской деятельностью то, что постулировалось как «чуждое» и яростно отвергалось – романтический стиль, глубину диалога с европейской музыкой и ее наследием (вопреки «антиевропейским» настроениям и ультимативному требованию творчества в «фольклорно-национальной» стилистике), универсализм и общекультурную сопричастность, сюжетно-тематическую широту музыкального творчества, укоренённые в его экзистенциальности и философизме (вопреки стремящемуся к гегемонии взгляду на музыку как искусство «всеобъемлюще национальное»), причем нес мощно и убедительно, вдохновенно обращая и вовлекая в свою «художественную веру»: в этом состояли противоречие и причина радикального отторжения этой фигуры во всей особенности и многогранности таковой. Рубинштейн конечно же был по факту, по сути его творчества, и во всей канве его многогранной судьбы русским художником, при этом не вмещаясь в рамки тех ультимативных требований, которые предъявляются в течение всей его жизни русским композиторам в качестве критериев художественно-национальной идентичности их творчества и условия права такового на признание и будущее – в этом состояло трагическое противоречие, вместе с ограниченностью и националистической извращенностью доминирующих установок и навязываемой «модели» идентичности, выступившее причиной остракизма, которому подверглись творчество и фигура композитора. Будучи по факту русским художником и композитором, выдающимся и многогранным деятелем русской национальной музыки, Рубинштейн, во всем характере и ключевых особенностях его творчества, конечно же не вмещался в рамки, в которые в этот период заключается понятие «русский художник», его творчество и художественно-эстетическое сознание разительно диссонировали с тенденциями «всеобъемлющей национальности», стилистической и сюжетно-тематической, в целом сущностной ограниченности музыкального творчества, которые в обозначенное время доминируют и насаждаются в пространстве русской музыки – в этом состояли противоречие и «вина» Рубинштейна, превратившаяся в программный остракизм, продуманный приговор забвения и отданность его наследия во власть зачастую чудовищных стереотипов и клише. Опыт непосредственного и непредвзятого восприятия музыки композитора убеждает лишь в одном – в подлинной прекрасности и нередкой исключительности этой музыки, обладающей такими сущностными и непреходящими, независящими от контекста социо-культурных обстоятельств художественными достоинствами, как философизм и художественно-поэтический символизм, пронизанность проникновенной экзистенциальной исповедью, глубиной и правдой многогранного самовыражения, смысловая ёмкость и сила нравственно-эстетического воздействия во всем означенном на слушателя, во многих случаях равная потрясению, а таковым в ней как правило соответствует еще и композиционная сложность и искушенность, поэтическая живость и вдохновенность образов. Как не ищи, но нет ничего сущностного и правомочного, что могло бы послужить основанием для отрицания художественной ценности этой музыки, напротив – ее самые ключевые особенности убеждают в ее прекрасности, вдохновенности и настоящности, нередко исключительной значимости. «Романтическая» музыка, написанная композитором, нередко слышится превосходящей признанные образцы эпохи и стиля по поэтической живости и вдохновенности, символизму и выразительности как самих образов и тем, так и общей композиционной структуры и ткани – взять хотя бы первые ф-нные концерты композитора, его октет или многочисленные пьесы для сольного ф-но. «Русская» же музыка Рубинштейна поражает зачастую глубиной ощущения «фольклорных» форм как совершенного, обладающего мощными возможностями языка экзистенциального, эмоционально-нравственного и философского самовыражения, возможностью вдохновенного превращения таких форм и в целом «национальной» стилистики в инструмент создания образов музыки, обладающих символизмом и ёмкой художественно-смысловой выразительностью. «Русская» музыка Рубинштейна не просто «фольклорна» и «национальна» – когда выпукло, когда утонченно и контурно, но неизменно убедительно – а в этом ее качестве как правило поэтична и вдохновенна, символична и выразительна, превращена в совершенный язык глубоких философских мыслей, самовыражения и сокровенно-экзистенциальной исповеди. Рубинштейн конечно же ощущал глубочайшую, неразрывную связь творчества и судьбы с русской музыкой и культурой, был русским художником и ощущал себя таковым – просто «не так», как предписывалось, в романтическо-экзистенциальном и философском универсализме своего творчества не могучи разделить мракобесные эстетические предрассудки, тенденции национальной ограниченности и замкнутости, отождествляемые в этот период с «национальной идентичностью» композитора и музыкального творчества. Русская музыка мыслится создаваемой только в «национально своеобразной» стилистике, сотканной из тщательно изучаемых, выпукло и довлеюще используемых «фольклорных» форм, Рубинштейн же привносит в ее пространство вдохновенное творчество на «романтическом» языке, раскрывая поэтическое и художественное совершенство такового для целей экзистенциально-философского самовыражения, его универсализм и художественную гибкость, адекватность горизонтам философского осмысления мира и воплощения философски символичных сюжетов из зачастую полярно разных «культурных миров». «Русскость» и «национальное» своеобразие музыки увязываются с максимально насыщенным, довлеющим и выпуклым использованием в ее творчестве «фольклорных» форм и мотивов, Рубинштейн же зачастую использует таковые «контурно» и «ненавязчиво утонченно», в меру особенностей стоящих перед ним художественных замыслов и целей, выразительных возможностей таковых, их способности послужить символизму и художественно-смысловой выразительности музыки – в этом случае музыка, созданная композитором в «фольклорно-национальной» стилистике, объявлялась «недостаточно и недостоверно русской». Композиторы «могучей кучки» обращаются к «фольклорным» мотивам и формам как к чему-то эстетически самодостаточному и самоценному, априори обусловливающему своим присутствием художественную ценность и «прекрасность» музыки, Рубинштейн – как к оригинальному языку и средству выражения, в русле отношения к таковым, принятого даже в самой «националистически» настроенной романтической музыке. Оппоненты Рубинштейна, апологеты «фольклорного» и «национального» в музыке, зачастую сводят создание «русской» музыки к грубо-откровенному использованию обработки «фольклорных» мотивов, Рубинштейн же создает такую музыку как правило гораздо более глубоко и утонченно – выстраивая художественно самостоятельные, символичные и выразительные темы на основе ощущения и использования только ритмических и ладно-гармонических особенностей «фольклорных» мотивов, творчески «переплавливая» таковые в нечто целостное и свое, отчего в первом случае «национально своеобразная» музыка и «фольклорное» в ней могут звучать аляповато и грубо, довлеюще и чуть ли не примитивно («Садко» Корсакова, «Русь» Балакирева), а в другом – поэтически вдохновенно. Русская музыка мыслится замкнутой на круге «национальных» сюжетов, востребующих и оправдывающих, подразумевающих творчество в «фольклорно-национальной» стилистике, Рубинштейн же привносит в пространство русской музыки общекультурную сопричастность и сюжетно-тематическую широту, воплощение сюжетов, считающихся «чуждыми» для русской музыки и национального композитора, обращение к которым видится олицетворением «чуждых влияний и веяний», торжествующих в ущерб национальной самобытности музыкального искусства и творчества, главное же – воплощение которых требует иной, нежели «фольклорная», стилистики. «Русский», «национальный» характер музыки, мыслится привносимым в нее за счет выпуклого и довлеющего использования в ее творчестве форм и особенностей «фольклорной» музыкальности, Рубинштейн же создает проникновенно-выразительную и глубокую музыку, заставляет такую музыку звучать с «национальным своеобразием», обращаясь к формам русской городской романсности, считающейся в кругу кучкистов «низкопробным музыкальным материалом», лишенным права представлять «национальный» характер музыки и быть использованным в ее создании. Либо же – создает глубокую и поэтически вдохновенную, пронизанную филсофизмом и экстазом самовыражения, силой нравственно-эстетического воздействия музыку, используя «эталонно романтический», заданный в творчевтве «великих романтиков» и «классическом» наследии европейской музыки язык – в том и другом случае, композитор обвинялся в творчестве «пошлой» и «банальной» музыки, в неразборчивости к используемому им в написании музыки «материалу форм», а так же в подверженности чуждому для русского композитора, и уродующему влиянию. Вопрос о «формах», используемых в творчестве музыки, о художественно-стилистическом языке, выступающем инструментом такового, является в «кучкистсткой» и «стасовской» эстетике, и благодаря ее влиянию – в русской музыке «золотого века» в целом, ключевым и принципиальным, представляет собой некий «камень преткновения» и мерило художественной ценности музыкальных произведений. Подобное неудивительно – «национальная идентичность» русской музыки не просто мыслится высшим эстетическим идеалом и «сакральной» целью музыкального творчества, а видится достигаемой и привносимой в музыку через «фольклорное своеобразие» и строгую «концептуальность» ее стилистики, фактически – через стилистическую ограниченность, отчего как таковые вопросы, дилеммы и в целом аспекты стилистки, обретают в русском музыкально-эстетическом сознании второй половины 19 века значение абсолютизированное. Однако – распространяется эта негативная особенность музыкально-эстетического сознания и на времена гораздо более поздние, и современные российские музыковеды, начианая стистемное изложение в их трудах традиционных клише в понимании и оценке творчества композитора, делают это с обращения к тем же самым, набившим оскомнину догмах о «художнике, неразборчивом к использовавшемуся им «материалу форм», с обозначения ключевой важности вопроса о «стилистике и формах». Русская музыка замысливалась ее апологетами как музыка «национально идентичная» и «стилистичная», суть и определяющие особенности которой сведены к аспектам стилистики, «национальное своеобразие» которой выступает в качестве высшего эстетического идеала и горизонта, и призвано достигаться за счет ее стилистической концептуальности и ограниченности. В этом, собственно, и состоит причина, по которй вопросы и дилеммы стилистики, и доныне обладают в русском музыкально-эстетическом сознании абсолютным значением, выступают камнем преткновения и мерилом художественной ценности и состоятельности музыкальных произведений. Правомочными представлять в музыке ее «руссский национальный характер», быть используемыми в творчестве музыки, считаются только прошедшие тщательный отсев и отбор «фольклорные» формы, то есть ритмические и ладно-гармонические особенности «народной» музыкальности, мотивы же и тона цыганского и городского романса, считаются чем-то «наносным» и «чуждым» для русской музыки, в целом «пошлым» и «низкопробным», и конечно же – «пошлостью» и «штампом», «низкопробным музыкальным материалом», непригодным для использования в пространстве русской национальной музыки, считается «классический», «обобщенный» и «универсальный», «национально отстраненный» и основанный на столетиями накапливавшихся и развивавшихся музыкальных формах, язык европейского романтизма. Русская музыка мыслится как музыка «стилистичная», стилистически ограниченная и своеобразная, суть и определяющие достоинства которой сведены к «фольклорно-национальному» характеру ее стилистики, а потому же – она в целом абсолютизирует и «сакрализует» вопросы «стилистики» и «языка форм», замыкается на таковых, «национальная идентичность» музыки и «фольклорно-своеобразная» стилистика, с помощью которой таковая достигается, превращаются в «высший эстетический идеал», в «художественно-эстетическую веру», всеобъемлюще навязываемую пространству русской национальной музыки второй половины 19 века, исчерпывающую собой цели и горизонты музыкального творчества. У всего этого есть совершенно конкретное выражение, и не менее конкретные, масштабные и порочные последствия – «фольклорные» формы и мотивы утверждаются как «почва» и истоки, «всеобъемлющий» и единственно приемлемый язык музыкального творчества, стилистический язык европейской музыкии, общий в этот период для музыкального искусства как такового, а так же «классическое» музыкальное наследие, акуммулирующее в себе формы, из которых соткан этот язык, опыт творческих исканий и музыкального мышления, яростно и «программно» отрицаются. «Собственно русским» музыкальным искусством считается искусство «всеобъемлюще национальное», национально ограниченное и замкнутое, «идентичность» которого дана в ограниченности и своеобразии музыкальной стилистики, той же музыке, которая пронизана тенденцими универсализма и общекультурной сопричастности, сюжетно-тематической и стилистической широты, диалога с «классическим наследием» и «романтическим настоящим» музыки европейской, наконец – обращенностью к экзистенциальным, и потому же «наднациональным» и общечеловеческим целям и горизонтам, вправе считаться «подлинно русским» искусством отказывается. Подобное отношение познает не только творчество Рубинштейна, но и творчество Чайковского и Танеева, в значительной мере впитавшее и унаследовавшее несомые Рубинштейном в пространство русской музыки тенденции универсализма, «романтичности» и диалога с «классикой», отвергаются и познают программное неприятие именно эти «тенденции» и «веяния», а фигура Рубинштейна встречает отрицание символически, как олицетворение и апологет, источник и «угроза» таковых. Все это зачастую находит выражение достаточно знаковое – вспомним к примеру, знаменитую статью Стасова «Триумф русского искусства в Париже», посвященную в основном успеху опер «кучкистов», который состоялся благодаря оперно-драматическому таланту Ф. ИШаляпина. В самом конце долгой жизни, ставший свидетелем утверждения в пространстве русской музыки тенедницй не то что «романтизма», а и модернизма, идеолог сохраняет веру молодости и на полном серьезе считает и мыслит «собственно русским исусством» только «рафинированно национальное», и в этом сущностно ограниченное искусство «кучкистов», забывает о том, что русское искусство познало триумф и всемирное признание задолго до этого – даже если отставить в сторону музыку Рубинштейна, хотя бы во время бостонской премьеры Первого концерта Чайковского, исполненного великим Гансом фон Бюловым. Оперы Рубинштейна и Чайковского, исполняемые выдающимися коллективами и солистами, вместе с их концертами, симфониями и т. д. познавшие всемирную известность, «русским» искусством для Стасова не являются – подобная музыка для идеолга «недостаночно национальна», либо не национальна вовсе, не несет с собой «правильно» воссозданную национальную специфику, и потому «собственно русской» сочтена быть не может. «Русское искусство» – это музыка на «национальные» сюжеты, созданная в рафинированно и выпукло «фольклорной» стилистике: так это было для «стасовского» и «кучкистского» круга на протяжении всей жизни его деятелей, и эта же система художественных оценок, вопреки всей асбурдности подобного, укоренится в русском музыкально-эстетическом сознании и сохранит свою действительность и доныне, в ретроспективном взгляде на события и произведения, дискуссии и процессы в русской музыке «золотого века». Требование «фольклорно-стилистического своеобразия» русской музыки, а на деле – ее стилистической тенденциозности и ограниченности, выстроенности в строго определенном стилистическом русле, обратилось программными «антиевропейскими» настроениями, отрицанием «классического» наследия европейской музыки, данных в таковом музыкальных и жанрово-композиционных форм, возможности творчества в их ключе. Стилистическая ограниченность и тенденциозность музыкального творчества, становится его сущностной, «национальной» по характеру ограниченностью, то есть ограниченностью в горизонтах художественных целей и замыслов, доступных для разработки сюжетов, горизонтах выражения как таковых, широчайшие смысловые слои философского, экзистенциального и эмоционально-нравственного плана, попросту не возможно выразить таким ограниченным музыкальным языком. Это противоречие проходит «красной линией» через судьбы и творчество композиторов-«кучкистов» – до конца дней они либо попросту не создают музыку на философски символичные сюжеты из общекультурного и европейского поля, подразумевающие «обобщенную», «романтическую» стилистику, либо, предпринимая в подобном направлении единичные попытки, достигают нередко чуть ли не смехотворных результатов. До конца дней этот художественный круг отрицает диалог с «классическим» наследием, и потому же – ему оказываются недоступны те творческие и художественные горизонты, те колоссальнейшие возможности музыкального творчества, прикосновение к которым возможно только в таком диалоге. Зачастую – абсурдность и парадоксальность этого и подобных эстетических предрассудков, проступают в судьбе и творчестве композиторов-«кучкистов» забавно и символично. Римский-Корсаков, решившийся изучать «классические» музыкальные и жанрово-композиционные формы и попытаться творить в их ключе, немедленно получает клеймо «бездушного изменника», вместе с тем – Бородин и Балакирев с радостью обращаются к творчеству в тех формах, через барьеры неприятия которых «мужественный первопроходец» оказался способен преступить, и обнаруживают в них для себя вдохновляющее русло творчества. Сам Римский-Корсаков, на определенном этапе пути программно перерабатывает в ключе форм и принципов классического наследия как большую часть собственных произведений, так и произведения «соратников» – по причине и фактической художественной незавершенности, и художественно-композиционной несостоятельности таковых в отношении к уровню и критериям, задаваемым «классическим» наследием и попросту узнанным композитором в его вовлеченности в академическую систему. Говоря проще – на роль «грозных и бескомпромиссных судей», «столпов» эстетической истины и «маяков» таковой в бурлящем море художественно-эстетических полемик, процессов и борений (позиция и искания, оценки и творчество «кучкистов» собственно и постулировались как «абсолютная истина», суть «прогрессивных» тенденций в русской музыке, мерило «подлинного» и «ложного») русская и советская эстетика возводили аматоров, творчество которых находилось во власти ограниченного эстетического сознания и нередко мракобесных шор и предрассудков, свершения и прорывы развития в творчестве которых, парадоксально или закономерно, происходили вопреки властвующим над ними догмам и исповедуемым ими в качестве «идеалов» предрассудкам, в восприятии того, что отстаивалось их оппонентами. Более того – и в самой русской музыке в конечном итоге торжествуют именно те тенденции романтическо-экзистенциального универсализма, общекультурной сопричастности и «наднадциональности», стилистической и сюжетно-тематической широты, которые в борьбе и противостоянии, клеймимые «не русскими художниками», привносили в ее пространство оппоненты «могучей кучки», ратующие за диалог русской музыки с музыкой европейской и мировой, воспринимающие ее как неотъемлемую часть последней. А может быть Рубинштейн – просто не обретший «неповторимого творческого голоса», и несостоятельный композитор, в подверженности «чуждому» и «пошлому» влиянию так и не нашедший пути к раскрытию возможностей своего дарования и тому, чтобы быть «русским» и «национальным» художником? Конечно же нет – глубина и красота выразительности созданной композитором в самых разных стилистических ключах музыки, непосредственно убеждает восприятие в ложности и надуманности подобных клише, а кроме того – оправдываться перед обвинениями в «нерусскости творчества», со всем символизмом этого, были вынуждены в определенный период так же Чайковский и Танеев, унаследовашие общие тенденции и художественные парадигмы творчества из «романтической» и «универсалистской» эстетики Рубинштейна. Так что дело было не в самом Рубинштейне, а в тех глубинных тенденциях и веяниях романтическо-экзистенциального универсализма, общекультурной сопричастности и общечеловечности, стилистической и сюжетно-тематической открытости, которые эта разносторонняя и «титаническая», могучая по влиянию фигура, несла в пространство русской музыки, последовательно укореняла и насаждала в таковом. Дело в той принципиальной и «романтической» по истокам приоритетности в музыкальном творчестве экзистенциально-личностного и философского, связанного с самовыражением, над «национальным» и «стилистическим», которую, в качестве фундаментального эстетического идеала и тенденции, нес в пространство русской музыки Рубинштейн, и олицетворением которой, невзирая на данную с самых первых шагов, и непрерывно углублявшуюся национальную сопричастность, было его композиторское творчество. Все дело было заключено в конечном итоге в «националистически» ограниченной и извращенной модели художественно-национальной идентичности русской музыки и русского композитора, которая насаждается в этот период кругом «кучкистов», за пределами которой оставались сущностный, романтическо-экзистенциальный, проистекающий из философизма и высшей цели самовыражения, универсализм музыкального творчества, «стилистически иное», и в целом принцип стилистической и сюжетно-тематической открытости, общекультурной сопричастности и диалогичности музыкального творчества. Обвинение «нерусский художник», звучавшее в отношении к композиторам – последователям художественно-эстетических идеалов и установок Рубинштейна, затрагивающее в их творчестве то же, что и в творчестве этого основоположника «романтического» направления в русской музыке – увы – является внятным тому подтверждением. Чайковский, как известно, вынужден был на страницах газет оправдываться перед подобными обвинениями и убеждать, что он художник именно «русский» – композитор позволял себе ту увлеченность «классическим» наследием, его опытом и формами, тот диалог с музыкой европейского романтизма, ту стилистическую инаковость и сюжетно-тематическую широту творчества, которые русский художник, согласно навязывавшимся «стасовским кругом», и де факто господствовавшим установкам, позволять себе был «не в праве». Дело не в том, что дилемма идентичности вообще ставилась – оно заключено в том, что такая дилемма ставилась ограниченно и «болезненно», в ее гипертрофированно-болезненном значении и в соответствии с установками, которые не возможно назвать иначе, как «националистически» ограниченными и извращенными. Вследствие этого, в область «нерусской музыки», со всем тем, что это означало, могла попасть Первая симфония Чайковского («рыхлость национального характера музыки», не достаточно «выпуклое» и «довлеющее» использование «фольклорных» форм), балеты и оперы композитора, его Шестая симфония (практически полное отсутствие в таковых «фольклорно-национальной» стилистики), а так же многочисленные и выдающиеся произведения Рубинштейна как в «романтической» стилистике, так и созданные с использованием «фольклорных» форм. «Русской» музыкой мыслится не та музыка, в творчестве которой композитор обращается к использованию «фольклорных» форм в меру выразительных возможностей таковых, их способности послужить сущностным целям самовыражения и художественно-философского символизма. «Русская» музыка – музыка, в творчестве которой подобные формы используются выпукло, довлеюще и самодостаточно, в которую они привносятся как то, что составляет основу ее «прекрасности» и художественной ценности. «Русская» музыка – музыка, в которой подобные «формы» не используются в меру обусловленности целями выражения и особенностями художественных замыслов, их способности послужить сущностным целям музыкального творчества, а представляют собой целостную и довлеющую, тенденциозную и ограниченную, «эстетически самодостаточную» стилистику. Примеров тому множество – в гениальном Втором ф-нном квинтете Рубинштейн сочетает «эталонно романтическую» стилистику и проникновенность, экстатичность и глубину экзистенциально-философского самовыражения, вдохновенный и поэтичный символизм тем, с контурным использованием «фольклорных» форм и «фольклорных» же по стилистике образов – подобного композитору достаточно, чтобы достигать желаемых художественных целей, выразительности и совершенства музыки произведения, и подобное, в принятых в позднем романтизме критериях, безусловно является свидетельством национальной сопричастности музыкального творчества. В Четвертом ф-нном концерте композиционная искушенность, смысловая глубина и символизм тем, трагический пафос философствования и экзистенциального самовыражения, обращенности образов музыки к драме существования и судьбы единичного человека, при этом сочетаются и с утонченным, данным в контрастирующей теме первой части, и с внятно-виртуозным, представленным в теме финала, обращением к использованию «фольклорных» форм, что в принятых в поле романтизма установках, является убедительным свидетельством национальной сопричастности композитора и его творчества (отметим, что именно в соответствии с такой моделью «русскости» и «национальной сопричастности», выстроены, к примеру, Четвертая симфония Чайковского, Первая и Третья симфонии Танеева). Однако – музыка эта по прежнему остается в глазах стасовского круга «нерусской», ибо для того, чтобы быть «русской», музыка должна быть выстроена в довлеющем использовании «фольклорных» форм и мотивов, в обращении к ним «эстетически самодостаточном» и «самоценном», а не обусловленном целями выражения и соответствием их возможностей таковым. Вопрос, собственно, достаточно очевиден: что является приоритетным – символизм, смысловая глубина и выразительность музыки, достигаемые теми или иными, в том числе и «фольклорно-национальными» средствами, или «фольклорно-национальное своеобразие» ее стилистики, ее достигаемая за счет свойств и особенностей стилистики «национальная идентичность», ложно отождествляемые в ней с «прекрасным» и «художественно ценным», постулируемые как нечто «эстетически самодостаточное» в ней. Говоря иначе – «фольклорные» формы и мотивы представляют ценность как язык и средство выражения, в их выразительных возможностях и способности послужить сущностным целям музыкального творчества, или обращение к ним «эстетически самодостаточно», ибо привносит в музыку то «национальное своеобразие», которое выступает в ней «высшим идеалом» и тождественно «прекрасному»? Рубинштейна традиционно обвиняли в неумении писать «русскую» музыку, достоверно и глубоко создавать «национальный характер» в музыке – вне отношения к ложности подобных обвинений, знаменательный момент состоит в том, что написание подобной, обладающей выпуклым и ограниченным «национально-стилистическим своеобразием» музыки, видится основной творческой задачей композитора и решающим мерилом художественной значимости его наследия для национальной музыкальной культуры. Ну, предположим, что Рубинштейн «не умел» писать «русскую» музыку, или создавал такую музыку «мало». А что же делать с тем, что в «романтической» стилистике композитором создано множество музыки, выдающейся с точки зрения самых сущностных художественных достоинств и особенностей? Разве же может ценность творчества и наследия композитора измеряться только масштабом его вклада в создание «национально своеобразной» музыки, а не в первую очередь – созданием им музыки, выдающейся с точки зрения сущностных художественных достоинств, находящихся вне каких-либо временных или социо-культурных рамок – символизм, сила нравственно-эстетического воздействия, смысловая выразительность и глубина, композиционная искушенность и жанровая широта, глубина ощущения тех или иных художественно-стилистических форм и прорывы в развитии и раскрытии таковых? А можно ли заклеймить «недостаточно национальным» композитором Листа, а так же отрицать художественную ценность листовского наследия лишь на том основании, что тот увлекался философски символичными сюжетами из общекультурного поля более, чем «национальными», и творил преимущественно в обобщенном языке «классического» романтизма? А возможно отрицать ценность наследия Сен-Санса для французской музыки на том основании, что в музыке большинства его произведений нет никакого «французского» фольклорно-национального своеобразия, что его музыка, обладая самыми сущностными художественными достоинствами, выстроена в основном в «эталонно романтической» стилистике, и в развитие таковой внесла существенный вклад? Возможно такое только в том эстетическом сознании, которое детерминировано социо-культурными процессами и тенденциями национализма, в котором «национальное» в музыке приоритетнее экзистенциально-личностного и философского, и потому же общечеловеческого, тождественно «прекрасному». Подобное конечно же было не возможно и абсурдно – по той простой причине, что в музыке романтизма, и в сформированном на основе «романтической» эстетики пространстве европейской музыкальной культуры 19 века в целом, совершенно иное, нежели «национальное» и «фольклорное», обладает приоритетностью и является художественно-эстетическим идеалом, горизонтом развития и исканий. Собственно – истоком противоречий послужило превращение «национального своеобразия» русской музыки в высший эстетический идеал и горизонт, и отождествление такового с ограниченностью, тенденциозностью и «фольклорной» концептуальностью ее стилистики. Противоречие заключалось в идее русской музыки как музыки «стилистичной», суть и определяющие достоинства и особенности которой, сведены к свойствам ее стилистики, «национально идентичной» в соответствии с характерностью ее стилистики. Еще точнее – исток противоречий заключался во влиянии социо-культурных процессов национализма на область «эстетического», музыкального творчества и музыкально-эстетического сознания, когда музыкальное творчество фактически превращалось в поле, на котором определяющие для культуры русского общества этого периода «националистические» аффекты, борения и дилеммы, проступали чуть ли не с символизмом, и «национальное» в музыке становится тождественным в ней «прекрасному» и «художественно ценному», обретает приоритетность над экзистенциально-личностным и философским, связанным с самовыражением, и потому же универсальным и общечеловеческим. Внешне может показаться, что судьба и творчество Рубинштейна разрывались меду культурными и музыкальными «мирами» Европы и России, однако на самом деле, «европейское» и «русское» были в творчестве и эстетическом сознании композитора нераздельны, именно в качестве русского художника и композитора, из самых истоков творчества использовавшего в таковом элементы «национальной» музыкальности (фольклорные и романсные) и обращенного к «национальным» сюжетно-тематическим горизонтам, он ощущает себя часть европейско-романтической и мировой музыки, призванным внести вклад в переосмысление и осуществление ее идеалов. «Романтический», экзистенциально-философский по истокам универсализм, подразумевающий широту стилистического инструментария и сюжетно-тематических горизонтов, органично сочетается в его творчестве с сопричастностью национальным истокам такового, объемлющей как внимание к «национальной» сюжетности, так и обращенность к использованию выразительных возможностей «национальных» музыкальных элементов и форм. Русскую музыку, со всей сюжетной и стилистической спецификой таковой, композитор ощущает неотъемлемой составляющей мировой и европейско-романтической музыки, причастной общему музыкальному наследию, стоящей перед общими для мировой музыки художественными дилеммами и горизонтами исканий, целями и задачами, призванной внести вклад в осмысление и осуществление самых трепетных и ключевых для европейско-романтической музыки идеалов. Собственно – композитор и привносит в пространство русской музыки все это: идеалы самовыражения, художественно-философского символизма и философского осмысления мира в бесконечности его проявлений, универсализм и общекультурную сопричастность, диалог с европейской музыкой и ее наследием, систему профессионального образования, сюжетно-тематическую и стилистическую широту и т. д. Вдохновенно и проникновенно, убедительно и достоверно «русскую» музыку, пусть и не во множестве, композитор создает на «романтическом» пике его творчества, вместе с произведениями, «эталонно романтическими» по стилистике, и тогда, собственно, когда его будущие «яростные оппоненты» еще практически никакой музыки писать не умеют – одно не противоречит в его эстетическом сознании и художественно-национальной идентичности другому. Однако – одно и другое противоречит и принципиально противопоставляется в «стасовской эстетике», в сформированной в недрах этой эстетики модели художественно-национальной идентичности русского композитора и его творчества, и все означенное превращается в обвинение в том, что Рубинштейн «живет и дышит» в творчестве совсем не тем, чем живет и должна жить русская музыка, что важно ей. В самом деле – композитор ощущает себя «своим» в мире европейской музыки, его творчество и фигура находятся на самом острие бурлящих в ней художественных процессов, исканий и полемик, в такое же отношение к миру европейской музыки, он приводит впоследствие и Чайковского, что не противоречит «русской идентичности» ни одного, ни другого. Русская музыка становится в творчестве Рубинштейна и Чайковского искусством, и по сути и экзистенциально-философскому содержанию, и по нравственно-эстетическому значению, универсальным и общечеловечным, обладающим общекультурной сопричастностью, открытостью в его стилистическом инструментарии и художественных, сюжетно-тематических горизонтах, сочетающим это с национальной спецификой и сопричастностью, и все дело состоит именно в том, что подобный универсализм музыкального творчества и искусства, трагически диссонировал с навязываемой в этот период русской музыке моделью национальной и художественной идентичности, определяющей для которой являлись тенденции национальной ограниченности и замкнутости, «всеобъемлющей национальности». Факт в том, что Рубинштейн ощущал признание своего творчества в пространстве европейской музыки, а трагическое и программное неприятие – в мире музыки русской. Однако – подобное вовсе не говорит о том, что композитор действительно был в большей степени «европейским», а не «русским» художником, жил чем-то «чуждым» русской музыке в плане эстетических идеалов и горизонтов. Чайковского в этом плане ждала судьба быть может еще худшая – весьма неоднозначно воспринимаемый в мире русской музыки из-за следования «рубинштейновским» горизонтам и путям в музыкальном творчестве, он вместе с тем не обладал той прочностью и глубиной общеевропейского признания, которые я были у Рубинштейна. Подобное раскрывало лишь ограниченность насаждаемой модели художественно-национальной идентичности русской музыки и меру чуждости таковой тенденций романтического универсализма, общекультурной сопричастности и диалогичности, сюжетно-тематической и стилистической широты. Собственно говоря – вся проблема состоит в том, что романтическо-экзистенциальный универсализм и «наднациональность», общекультурная сопричастность и диалогичность, сюжетно-тематическая и стилистическая широта музыкального творчества, являются в течение всей второй половины 19 века тем, что наиболее противоречит навязываемой и утверждаемой кругом «кучкистов» модели художественно-национальной идентичности русского композитора и русской музыки, и создание выдающихся симфонических и концертных произведений в «национально отстраненной» стилистике, увлеченность философски символичными сюжетами из самого широкого культурного поля, служат не признанию композитора, а налеплению на него клейма «нерусского», «чуждого национальным истокам и идеалам» художника. Универсализм музыкального творчества, укорененный в его экзистенциальности и философизме, приверженности высшей цели самовыражения личности, диалог с европейско-романтической музыкой и ее наследием, тенденции стилистической и сюжетно-тематической широты – вот, что нес творчеством и просветительской деятельностью Рубинштейн, и что трагически диссонировало с господствующими в этот период в русской музыке и музыкальной эстетике тенденциями «националистического» и «народнического» толка, взглядом на музыку как на искусство «всеобъемлюще национальное», «национально идентичное и замкнутое», стилистически ограниченное. Собственно – ключевым в отрицании творчества Рубинштейна, и в неоднозначном, нередко откровенно негативном отношении к творчеству Чайковского, всегда был вопрос и момент стилистики: русскому композитору предписывалось творить «фольклорным» языком, строго воспрещалось обращаться в творчестве к «романтическому», «классическому» языку европейской музыки и создавать нечто, что звучит как таковая, творчество русского композитора мыслилось стилистически ограниченным и тенденциозным (именно это крылось в первую очередь за понятием его «национальной идентичности»). Судьба композиторского творчества Рубинштейна, пронизывавшие его творческий путь конфликты, были олицетворением глубинных противоречий в пространстве русской музыки «золотого века» между тенденциями романтизма, универсализма и общекультурной сопричастности, сюжетно-тематической и стилистической широты, и тенденциями «музыкального национализма», под влиянием которых музыка мыслилась как искусство национально замкнутое, ограниченное не только стилистически, но и сущностно. Еще точнее – противоречий между «универсалистскими» по сути эстетическими идеалами и тенденциями, и «борениями идентичности», которые из общего поля культуры русского общества второй половины 19 века, были перенесены в область «эстетического» и стали битвой за «всеобъемлюще национальный» характер музыки как искусства, ее «национально-стилистическое своеобразие» и служение «национального» толка идеалам и горизонтам. Однако – и до сих пор, спустя более века после описываемых полемик и событий, трудно понять, как прекрасная, полная вдохновения и поэтичности музыка, пронизанная глубиной экзистенциально-философского самовыражения и символизма, могуче вовлекающая в мир запечатленных в ней смыслов и переживаний, настроений и идей, может на полном серьезе объявляться лишенной художественного значения лишь потому, что выстроена в «романтической», а не «фольклорно-национальной стилистике, или что принцип и подход в использовании в ее творчестве «фольклорных» форм и элементов, отличаются от тех, которые задавала определенная музыкальная школа. Возможно ли представить, что музыка гениальных концертов Шопена отрицалась бы и лишалась художественной ценности на том основании, что она создана в «эталонно романтической», «венской» стилистике, вне внятного «польского своеобразия» и воплощающих таковое стилистических особенностей? Возможно ли представить, чтобы Шопен перестал быть лицом польской национальной музыки по той причине, что о трагической борьбе своего народа за свободу он говорил в большей степени языком «классических» музыкальных форм, что глубина и художественный символизм экзистенциальной исповеди, личностное и экзистенциальное, обще и сущностно человеческое, интересовали его в музыкальном творчестве гораздо более «национального своеобразия» музыки? Ну, не абсурдно ли?