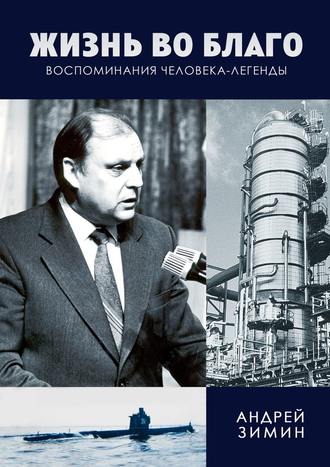
Полная версия
Жизнь во благо. Воспоминания человека-легенды
Изначально определением, кто есть «кулак», а кто «середняк», занимались непосредственно на местах. Единой и точной классификации не было. В некоторых районах к кулакам приписывали тех, у кого было две коровы, или две лошади, или хороший дом.
В феврале 1930 года был издан партийный циркуляр, разделивший кулачество на три категории: первая («контрреволюционный актив») подлежала аресту и могла быть приговорена к смертной казни; вторая (активные противники коллективизации) – выселению в отдалённые районы; третья (сомневающиеся) – расселению в пределах района проживания.
Однако подобное разделение на группы с видимой неопределенностью их характеристик создавало почву для произвола на местах. Составлением списков семей, подлежащих раскулачиванию, занимались силовые государственные структуры и власти на местах при участии деревенских активистов.
При этом страна всё гуще покрывалась сетью лагерей и посёлков «спецпереселенцев» (высланных «кулаков» и членов их семей). К январю 1932 года всего с мест постоянного проживания было выселено около 1,4 млн человек, из них несколько сотен тысяч – в отдалённые районы страны. Их отправляли на принудительные работы (например, на строительство Беломорско-Балтийского канала или Волго-Балтийского водного пути), рубку леса на Урале, в Карелии, Сибири, на Дальнем Востоке.
Многие гибли в пути, многие – по прибытии на место, поскольку, как правило, «спецпереселенцев» высаживали в «голом поле»: в лесу, в горах, в степи. Выселяемым семьям разрешалось брать с собой одежду, постельные и кухонные принадлежности, продовольствие на 3 месяца, однако общий вес багажа не должен был превышать 30 пудов (480 кг). Остальное имущество изымалось и распределялось между колхозом и бедняками.
Раскулачивание стало важнейшим инструментом форсирования коллективизации: сопротивлявшихся созданию колхозов можно было на законных основаниях репрессировать как кулаков или им сочувствовавших «подкулачников».
Для этого на работу в сельские районы были мобилизованы 25 тыс. рабочих из городов (так называемые коммунисты-двадцатипятитысячники), готовых беспрекословно, любой ценой выполнить партийные директивы. Уклонение от коллективизации стали трактовать как преступление. Под угрозой закрытия рынков и церквей крестьян заставляли вступать в колхозы. Имущество тех, кто осмеливался сопротивляться коллективизации, конфисковалось. К исходу февраля 1930 года в колхозах числилось уже 60% (14 млн) крестьянских хозяйств СССР.
При этом зимой 1929—1930 гг. во многих деревнях и сёлах наблюдалась страшная картина. Крестьяне гнали на колхозный двор (часто просто сарай, окружённый забором) всю свою скотину: коров, овец и даже кур и гусей.
Руководители колхозов на местах понимали решения партии по-своему – если обобществлять, то всё, вплоть до птицы. Кто, как и на какие средства будет кормить эту «общую» (а по сути – уже ничейную) скотину в зимнее время, заранее предусмотрено не было. Естественно, большинство животных погибало уже через несколько дней. Более искушённые крестьяне заранее резали свою скотину, не желая отдавать её колхозу. Тем самым по животноводству был нанесён сильнейший удар.
В результате с колхозов в первое время брать фактически было нечего. Из-за этого город стал испытывать ещё большую нехватку продовольствия.
Раскулачивание, конфискация имущества, аресты и высылки в отдалённые районы стали олицетворением сплошной коллективизации. В стране нарастало массовое крестьянское недовольство. Опасаясь народных волнений, 2 марта 1930 года в центральной советской газете «Правда» была опубликована статья И. В. Сталина под заголовком «Головокружение от успехов», в которой осуждались «перегибы» в колхозном строительстве, а вина за них возлагалась на местное руководство. Тем не менее даже после этого политика советского государства в отношении деревни и крестьянства по сути осталась прежней.
Одной из самых трагических страниц коллективизации стал голод 1932—1933 гг., охвативший Украину, Поволжье, Северный Кавказ, Южный Урал и Казахстан.
Урожаи 1931 и 1932 гг. в СССР были ниже средних. В 1932 году выполнить задания по сдаче хлеба колхозы основных зерновых районов страны не смогли. Туда были направлены чрезвычайные комиссии. Деревню вновь захлестнула волна административного террора. Такая ситуация сложилась из-за продолжавшегося принудительного изъятия государством хлеба для экспорта и обеспечения нужд индустриализации. Зачастую изымалось даже то зерно, которое было предназначено для весеннего посева. Мало сеяли, мало и собирали. Но план поставок необходимо было выполнять. Тогда у колхозников забирали последние продукты.
Голодало, как впоследствии признавал сам И. В. Сталин, 25—30 млн человек. По разным оценкам, от голода в то время погибли от трех до восьми миллионов крестьян. Коллективизацию фактически пришлось приостановить.
Но уже в 1934 г. она возобновилась. На этом этапе развернули широкое «наступление» на крестьян-единоличников. Для них был установлен непосильный административный налог. Таким образом, их хозяйства подводились под разорение. У таких сельчан, всё ещё частников, оставалось два пути: либо идти в колхоз, либо уходить в город на стройки первых пятилеток.
Постепенно деревня смирилась с колхозным строем. К 1937 году индивидуальное хозяйство фактически сошло на нет (93% всех крестьянских дворов было объединено в колхозы).
Коллективизация, по оценкам большинства историков, имела тяжёлые последствия для страны. В ходе неё под предлогом раскулачивания был уничтожен целый слой крестьян, которые умели успешно работать на земле (ликвидировано до 15% общей численности крестьянских хозяйств, признанных кулацкими, хотя официально, по данным переписи 1929 года, их в СССР насчитывалось всего лишь 3%).
В итоге произошло отчуждение сельских жителей от собственности и результатов своего труда на земле. Сократились урожайность, поголовье скота, потребление продовольствия на душу населения. С 1928 по 1935 годы в стране действовала карточная система распределения продуктов среди населения.
Колхозы были лишены самостоятельности и являлись бесправным придатком административно-бюрократического аппарата власти. А обострённая продовольственная проблема стала постоянным атрибутом существования жителей СССР.
Деду Ивану, признанному кулаком, дали десять лет лагерей8. Остальным вроде бы поменьше, точно сказать не могу. Да и не принято было обсуждать это. И тогда, да и потом тоже, больше помалкивали. Времена-то, сами знаете, какие были. Обрывочно известно только, что оба арестованных вместе с дедом его сына отбывали свои сроки в лагерях на строительстве Волго-Балтийского водного пути.
Там и сгинули бесследно. Знаю однако (мама как-то обмолвилась), что то ли в 1935, то ли в 1936 году от деда пришла единственная весточка. Её передал ей один из освободившихся заключённых. В ней Иван Васильевич писал, что работает на лесоповале в Буреполомлаге9 и чувствует себя неважно. Мама моя была, кстати, единственным человеком, проводившим подводу со своим отцом в его тяжёлый арестантский путь.
Больше никаких вестей ни от него, ни от моих арестованных дядьёв не приходило. Видимо, все умерли там, в ГУЛАГе, как и тысячи других таких же несправедливо арестованных в то время крестьян-середняков.
После раскулачивания почти все остальные избежавшие ареста члены семьи Патокиных уехали из Порздней. Кто в Дзержинск10, кто в Горький11 работать на автозавод (ГАЗ), кто – в его пригороды. Где-то году в 1936-м они забрали к себе и мою бабушку. Её к тому времени разбил паралич. Видимо, очень сильным был стресс от такого стремительного разрушения большой и дружной семьи.
Да и жить в Порзднях после раскулачивания было невозможно. Забрали-то ведь всё. Вплоть до одежды. Так что младшие дети Патокиных, Андрей и Виктор, которые остались жить вместе с моей бабушкой Ольгой Ивановной, в то время иногда даже вынуждены были ходить и собирать милостыню. Да только не всегда удачно. Ведь середина 1930-х – время голодное после сплошной-то коллективизации. Жить на селе, а особенно раскулаченным семьям, было просто невыносимо.
В итоге позднее попали они работать на ГАЗ. Андрей потом был призван в армию. Прошел всю Великую Отечественную войну 1941—1945 годов. Вернулся сильно израненным, но тем не менее прожил достаточно долгую жизнь. Умер он, когда ему было что-то около семидесяти пяти.
Виктор же и повоевать-то не успел. Пропал без вести. Есть только неофициальные, устные свидетельства того, что эшелон, в котором их везли на фронт из Горького, попал под сильную бомбёжку недалеко от Москвы. Мало кто уцелел тогда.
Из истории семьи Патокиных знаю ещё то, что оставшиеся не арестованными трое старших сыновей были хорошими специалистами. Двое из них работали в Дзержинске. Один – бригадиром штукатуров, и даже получил бронь во время войны как незаменимый мастер. Второй трудился аппаратчиком на Чернореченском химкомбинате. Там в результате полученной серьёзной травмы на производстве он потерял один глаз. Тем не менее всю Великую Отечественную войну он прослужил в стройбате12. Третий же работал на одном из промышленных предприятий в городе Вязники.
Мы же, семья Тюгиных (я, мои отец и мама, жившие в одном доме вместе с папиными родителями – Тюгиными-старшими), где-то в начале 1933 года переехали в Сормово. Инициатором этого стал дед Василий. Мол, не я, так сын мой пусть исполнит мою мечту – работать на Сормовском заводе.
Хотя, как мне теперь кажется, главной причиной, по которой Василий Васильевич настоял на нашем переезде в город, стала обстановка на селе. Жить в то время в Порзднях было очень трудно. Наступили, как я уже говорил, весьма тяжёлые, не только голодные, но и смутные времена.
Детство и юность
⠀
Дед Василий снабдил своего сына (моего отца Геннадия Васильевича), человека тоже весьма мастерового в кузнечном деле, необходимыми рекомендациями. Однако это не стало избавлением нашей переехавшей семьи от навалившихся тогда на неё трудностей.
Заработки в то время на заводах тоже были весьма скромными. А надо было не только прокормиться, но ещё и где-то жить. Благо мама была отличной портнихой, обшивавшей жён и детей многих, в том числе известных в Сормово и его окрестностях, людей.
Тем не менее, чтобы как-то сводить концы с концами, нам по совету коллег отца пришлось переехать в деревню Малое Козино Балахнинского района, что в 14 километрах от Сормово. Оттуда каждое утро папа вынужден был три километра идти пешком до станции, на которой делал остановку пригородный поезд, отвозивший его на работу в Сормово, а вечером таким же образом возвращаться домой.
Это было очень неудобно, и, как только смогли, мы переехали в посёлок Высоково, что уже километрах в восьми от Сормово в сторону Балахны. Там квартиру можно было снимать значительно дешевле, чем в городе. Однако на завод, где работал отец, ему всё равно приходилось каждый день добираться на поезде, хотя и значительно ближе, нежели из Малого Козино.
И вот ведь ирония судьбы! В течение каких-то двух-трёх лет снимали мы тогда в Высоково жильё у Семёна Григорьевича Чкалова, приходившегося дядей самому Валерию Павловичу Чкалову!
Конечно, в те годы я в силу своего слишком маленького возраста ещё не знал и не понимал, что это прославленный летчик13, имя которого уже гремело на всю страну.
В итоге и видел-то я его, как говорится, живьём всего два раза. Зато как! В 1936 году он приезжал в Горький, когда баллотировался в депутаты Верховного совета СССР и попутно ненадолго завернул в Высоково навестить своего дядю. Причём заехал на служебном автомобиле с водителем! По тем временам событие не просто неординарное – чудо, да и только. И когда его двоюродные брат и сестра – Борис и Татьяна (дети того самого дяди Семёна, у которого мы тогда жили), ну а заодно и я, с большим интересом и нескрываемым трепетом подошли к стоящей во дворе дома Чкаловых автомашине, он попросил водителя не гонять нас, а всё же дать детишкам возможность рассмотреть её поближе. Вполне естественно, что это событие осталось в моей памяти на всю дальнейшую жизнь, как одно их самых ярких воспоминаний детства. Хотя и было мне тогда всего-то шесть лет.
Позже, когда, проживая в Высоково, мы вынуждены были сменить несколько квартир, тем не менее добрые отношения с семьей Чкаловых у нас сохранились. В основном благодаря моей маме. Она, как я уже говорил, была хорошей портнихой и шила платья в том числе и для женщин-Чкаловых.
Отец же, здорово зарекомендовав себя на заводе, заслужил достойное уважение начальников и своих коллег. Благодаря этому в конце 1939 года ему в качестве поощрения была выделена денежная ссуда для строительства дома. Добавив к ней уже имевшиеся в нашей семье на тот момент накопления, в 1940 году родители начали возводить своё собственное жилище. Въехали мы в него, хотя и не достроенное ещё до конца, в самом начале Великой Отечественной войны – то ли в июне, то ли в августе 1941 года.
Так как мой отец к тому времени стал уже высококвалифицированным рабочим, на фронт он не попал, получив так называемую бронь. Вместе с тем он был одним из тех миллионов людей, которые, как поют в известной песне про Победу, «дни и ночи у мартеновских печей» самоотверженно ковали её в тылу.
В то время на заводе, где работал отец, в короткие сроки была налажена сборка легендарных танков Т-34, которая продолжалась практически до 1945 года. И папа с началом войны был переведён в один из ведущих цехов, где производилась сборка отдельных узлов тех самых легендарных «тридцатьчетвёрок».
При этом, будучи, по сути, сормовским рабочим (а в советском кино их всегда изображали героями-коммунистами), он не занимался какой-либо общественной деятельностью, в том числе и не состоял в партии. Почему? Сейчас трудно ответить на этот вопрос. Время тогда было очень непростое. Может, свежи были в памяти тяжёлые воспоминания о незаконном и несправедливом раскулачивании маминых родителей и их ближайших родственников. А может быть, и не принимали его в партию именно потому, что отец, мать, братья и сестры моей мамы носили по тем временам страшное клеймо «врагов народа».
К началу войны я уже ходил в школу-семилетку, поступив в первый класс в 1937 году. Школа наша находилась на центральной улице посёлка Высоково и, пожалуй, ничем не отличалась от других подобных учебных заведений того времени. К слову, моей учительницей была очень хорошая женщина, звали которую Анфиса Игнатьевна, приходящаяся снохой двоюродному брату В. П. Чкалова – Владимиру Семёновичу Чкалову.
Несмотря на то что конец 1930-х годов стал началом периода массовых репрессий в СССР, ничего конкретного сказать об этом не могу. Никто из моих родственников, родителей, знакомых или одноклассников арестован не был. Так что подобные случаи в памяти как-то не сохранились.
Историческая справка
Политические репрессии в Советской России начались практически сразу же после Октябрьской революции 1917 года. Причём их жертвами становились не только активные противники большевиков, но и люди, просто выражавшие несогласие с их политикой. Кроме того, репрессии проводились также по социальному признаку – против бывших полицейских, жандармов, армейских офицеров, чиновников царского правительства, священников, помещиков и предпринимателей, а в период коллективизации – против кулаков и «подкулачников».
С началом принудительной коллективизации сельского хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-х – начале 1930-х годов, а также по мере укрепления личной власти И. В. Сталина и особенно после убийства в Ленинграде в 1934 году первого секретаря областного комитета ВКП (б) С. М. Кирова14, репрессии приобрели массовый характер. Особенного размаха они достигли в 1937—1938 годах, известных в российской и зарубежной историографии как «Большой террор».
Данный период начался с назначения на пост главы НКВД СССР15 Н. И. Ежова. В июле 1937 года им был подписан специальный приказ №00447, в соответствии с которым внесудебные «тройки» НКВД получили право вместо судебных органов не только выносить приговоры обвиняемым в совершении преступлений, но и приводить эти приговоры в исполнение в максимально упрощённом порядке.
Массовые репрессии периода «Большого террора» базировались на решениях Политбюро ЦК ВКП (б), которые принимались в соответствии с теорией И. В. Сталина об усилении карательных мер диктатуры пролетариата для борьбы с остатками капиталистических классов, представители которых должны были изолироваться или уничтожаться. Характерно, что осуществлялись такие действия на основании назначаемых цифр («плановых заданий») по выявлению и наказанию так называемых врагов народа.
При этом репрессировались не только лица, ведущие активную преступную и подрывную антисоветскую деятельность, но и просто подозреваемые в таковой. В первую очередь к их числу относились бывшие кулаки, члены повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формирований; члены антисоветских партий; бывшие военнослужащие Белой армии; уголовники; чиновники, ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой, а также подобные элементы, уже находящиеся в тюрьмах, лагерях, трудовых поселениях и колониях, продолжающие вести там активную антисоветскую подрывную работу.
Такой подход позволил развернуть в стране активное доносительство, позволяющее людям не только выявлять «затаившихся врагов», но и попросту сводить счёты со своими обидчиками, неугодными руководителями и чиновниками самого различного уровня и социального происхождения. Нередко доносы писали на соседей, чтобы после их ареста завладеть большей жилплощадью, занять освободившиеся должности или убрать с дороги чем-то мешающих кому-то людей, ложно обвиняя их в самых разных нелицеприятных деяниях.
Всего по различным, а не только по политическим мотивам в период «Большого террора» было арестовано около полутора миллионов человек. Без малого половина из них была расстреляна. При этом только по так называемым Сталинским расстрельным спискам, утверждаемым Политбюро ЦК ВКП (б), было уничтожено 43,8 тыс. человек. В подавляющем большинстве это были работники различных управленческих структур, в том числе НКВД и РККА16. В частности, расстрелу подверглись 78% членов ЦК ВКП (б).
Окончанием «Большого террора» можно считать сентябрь-ноябрь 1938 года, когда Н. И. Ежов был смещён с поста руководителя НКВД и впоследствии сам расстрелян как «враг народа». После этого СНК СССР17 и ЦК ВКП (б) 17 ноября 1938 года приняли постановление о запрете органам НКВД и прокуратуры проводить какие-либо массовые аресты и выселение граждан. Были ликвидированы и внесудебные «тройки», созданные особым приказом НКВД СССР.
Вместе с тем репрессии в Советском Союзе, хотя и в меньших масштабах, продолжались практически до смерти И. В. Сталина в 1953 году. Нередко они насилии характер целенаправленных кампаний (так называемые Еврейское дело, Дело врачей и т.п.).
Самое, наверное, значительное, что осталось в моей памяти о предвоенном периоде, да и о войне, – это то, что жизнь в ту пору была очень тяжёлой. И голодной, и холодной. Тогда практически все заводили маленькие огородики, выращивая на них летом хоть какую-то снедь. В основном картофель. Тем и кормились.
Нашей семье в этом смысле не повезло. Земля, на которой стоял наш дом, где мы тоже пытались хоть что-то вырастить для еды, явно была неплодородной. Сплошной песок. И удобрений тогда взять было негде. Даже навоз был в дефиците. Как говаривал в ту пору отец, перефразируя известную русскую пословицу, «сколько посеяли, столько и собрали».
Поэтому в выходные дни мне вместе с ним часто приходилось заниматься заготовкой торфа, чтобы было чем топить печь. Уходили километров на пять-шесть от посёлка, где жили. Таскали торф домой в корзинках да на тачках-тележках. Лошадей-то и подвод в посёлке ни у кого не было. Так вот и жили.
Но самое тяжёлое время наступило в начале 1943 года. Начался голод. Это я хорошо помню. Мне тогда было уже тринадцать лет. Какое-никакое пропитание семье, особенно зимой, приходилось добывать, ходя по деревням и меняя на еду самые разные вещи.
Память чётко сохранила о том периоде одно страшное воспоминание. Однажды, в феврале 1943-го, отец сказал: «Собирайся, сынок, да одевайся потеплее. Поедем поменяем что-нибудь на картошку».
От Высоково до Балахны, что в пятнадцати километрах к северу от того места, где мы жили, доехали на поезде. Потом пешком. Перешли по льду Волгу и, продвигаясь по направлению на юг, придерживаясь левого берега реки, на протяжении километров двенадцати обходили все деревни подряд. Причём весьма удачно. Смогли набрать довольно много картошки, отдавая за неё всякую всячину из нашего домашнего скарба: у отца мешок да у меня какие-то саночки, что с собой брали, тоже полные картошкой.
И тут, когда уже собрались возвращаться назад, в Балахну, местные жители посоветовали идти другой дорогой. Мол, что возвращаться назад почти пятнадцать километров? Да потом ещё столько же на поезде ехать до дома? Тут дорога есть прямая до посёлка Копосово. Мы, деревенские, дескать, всегда по ней на базар туда ездим. Всего-то, мол, километров восемь. А от Копосово до нашего Высоково совсем рядом – километра три, не больше.
Подумал отец, подумал и решил идти этим коротким путём. Всё почти в три раза ближе. Так и двинулись мы по указанной нам дороге. Хотя, скорее, по сути, это была просто хорошо утоптанная тропинка, которая к тому же еле-еле угадывалась под снегом. Ну да ничего. Время было всего где-то около двух часов дня. Успеем засветло, казалось нам.
Да вот беда – через два-три километра пройденного нами пути сильно завьюжило, а к вечеру ещё и мороз усилился. В общем, как говорится, ни зги не видно. Чем дальше, тем больше становилось ясно, что с пути мы сбились. Шли каким-то кустарником. Стали появляться овраги. Часов через пять-шесть, когда совсем стемнело, и отец, и я полностью выбились из сил. Хорошо хоть часам к девяти вечера пурга стихла. Небо прояснилось. На нём стали хорошо видны яркие звёзды, по которым уже можно было попытаться сориентироваться.
Уставшие, мы скатились в какой-то глубокий овраг, из которого никак не могли выбраться, окончательно выбившись из сил. Тогда папа предложил немного отдохнуть. Через какое-то время он начал засыпать, что на сильном морозе означало верную смерть. И тут я, сам-то уже полусонный, вдруг услышал какие-то голоса. Очнувшись, стал что было сил расталкивать отца:
– Папа, папа, проснись, голоса какие-то слышно!
– Да какие тут могут быть голоса, чудится тебе небось, – сквозь сон ответил он.
– Да нет же, нет, не чудится! Точно кто-то говорит! Голоса-то женские!
И я не ошибся. На наше счастье, мимо нашей ямы проходили на лыжах девушки-связисты, искавшие повреждение на кабельной линии, вышедшей из строя из-за бурана. Они были из зенитной части, что стояла вдоль берега Волги. Немцы использовали реку как ориентир для воздушных налетов на промышленные объекты Горького и Сормова. А наши прожектористы и зенитчики отражали эти атаки.
Так нам несказанно повезло. Замерзли бы, да и дело с концом.
Мы начали кричать. Девчонки кое-как вытащили нас из ямы. Рассказали нам, где мы находимся. Оказывается, мы долгое время шли вдоль Волги в противоположную от Копосово сторону. Река была в каких-то пятидесяти-ста метрах от нас.
Они сориентировали нас на небольшую землянку-сторожку, что стояла совсем неподалёку, где можно было отогреться. Дойдя до неё и просидев там в тепле пару часов, мы с отцом наконец-то пришли в себя. Сторож, охранявший колхозное сено, напоил нас кипятком, показал место, где можно перейти широкую в тех местах Волгу в направлении поселка Ляхово, где у отца жил один из его коллег по бригаде. Но при этом строго-настрого предупредил, чтобы мы шли четко на обозначенный им ориентир. Мол, в других местах промоин много, занесённых снегом. Можно провалиться.
Пошли. Время было уже около двенадцати ночи. Видимость очень плохая. Двигались строго след в след, на определенном расстоянии друг от друга. И тут отец попал в полынью. Хорошо ещё, сторож надоумил нас слеги18 взять да и промоина эта оказалась не сильно глубокой.
Тем не менее, когда мы дошли до Ляхово, мокрая одежда на отце, замерзшая на морозе, практически вся полопалась. Благо встретили нас там хорошо. Накормили, отогрели. Товарищ отца дал ему другую одежду. А рано утром – бегом к поезду. Надо было домой успеть, а потом отцу ещё и на работу. До станции-то километра три, да от неё до нашего Высоково на поезде ещё три.

