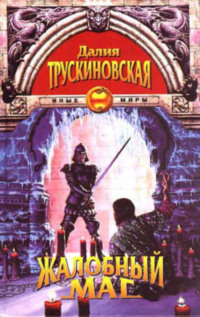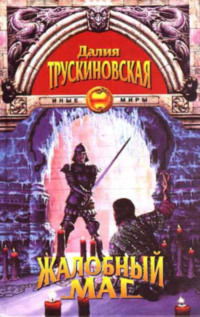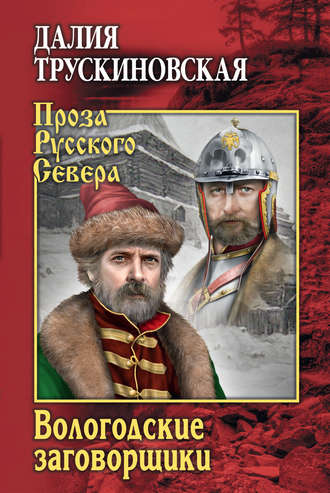
Полная версия
Вологодские заговорщики
– Гонец из Ярославля прискакал! – ответили ему. – Такие страсти, такие страсти! В Ярославль из Ростова человек приехал, а туда из Москвы человека послали, а у нас, ты же знаешь, уговор – сведения передавать. Горит матушка Москва! Горит! Паны подожгли!
– Чтоб им сдохнуть! – от всей души пожелал Чекмай.
Ему нужно было во что бы то ни стало переговорить с гонцом. Но тот сидел у воеводы, и добыть его оттуда не было никакой возможности.
И вряд ли тот гонец мог сказать о человеке, которому служил Чекмай, служил не из выгоды – а потому, что видел в нем единственного достойного воеводу, способного очистить Москву от поляков. Вместе они воевали с поляками, вместе были в Зарайске, вместе ушли оттуда к Рязани, чтобы примкнуть к рати Прокопия Ляпунова. Тот человек и отправил Чекмая в Вологду с особым поручением, с опасным поручением, но Чекмай ни мгновения не колебался.
Ему оставалось лишь Бога молить, чтобы воевода остался жив в горящей Москве.
В толпе никто ничего не знал толком, да и знать не мог. Чекмай все же прислушивался к речам, надеясь услышать хоть что-то путное. Он увидел нескольких беглецов из Москвы – среди них Кузьму Гречишникова и купца, который, судя по сходству, был его братом. Чекмай уже знал, что звать его Мартьяном.
– Люди добрые, Бог уберег! – восклицал этот брат. – Еще бы малость помедлили – и гореть бы нам и с женами, и с деточками!
Чекмай был послан с поручением по двум причинам – странной и достойной. Странная: у него был нюх, нюх на все сомнительное и тревожное. Достойная: верность. Он был верен наперекор всему, беря в том пример со своего князя, воеводы безупречного, с таким понятием о чести, какого до сей поры в Московском царстве не встречали; может, и попадалось похожее, но редко.
Притащив чудом спасенного Гаврюшку к Глебу, Чекмай нутром чуял: несуразица происходящего, скорее всего, мнимая. Исчезновение подьячего Деревнина тоже как-то нехорошо благоухало. Но вот в толпе – братья Гречишниковы, которые могут что-то в этом деле понимать. Семейство подьячего, как рассказал Гаврюшка, пару дней прожило у Кузьмы. А все лица купеческого сословия, что за несколько месяцев перебежали из Москвы в Вологду, были у Чекмая под особым подозрением.
Подозрение укрепилось, когда к Гречишниковым подошел хорошо известный Чекмаю человек в богатой длинной шубе, крытой вишневого цвета сукном с нашивками из алого атласа и золотным кружевом, в собольей четвероугольной шапке с лазоревым верхом, в редких для Вологды перстатых рукавицах, еле видных из-под длинных рукавов шубы. Вот уж этот человек никакого доверия не внушал. Лицом он был узок и бледен, бородой и усами – рыжеват, про такие лица в народе говорят: рожа топором.
– Челом, Кузьма Петрович, – сказал рыжеватый. – Что деется, а?
– Ох, Иван Васильич, и помыслить страшно, мы с братом сейчас пойдем в собор, молебен нужно отслужить. Ведь застрянь он там – и лишился бы я брата.
– То-то и оно, – подтвердил рыжеватый. – И это ведь еще не последняя беда. Поляки из Москвы не уйдут, так и останутся там сидеть на пепелище. И никакой Ляпунов с воинством их оттуда не прогонит. Воинство-то разношерстное, кого там только нет. Чуть что не так – переругаются и передерутся.
Выговор у рыжеватого был истинно московский, что сперва даже удивляло Чекмая, который впервые слышал речь этого человека: он знал, что человек этот – «немчин английской земли», природный англичанин, с раннего детства живущий в Москве и до того сделавшийся своим, что купечество ему даже русское прозвание присвоило – Иван Ульянов, подлинное же имя было – Джон Меррик.
– А ведь сколько денег тому Ляпунову послано, – вздохнул брат Мартьян Гречишников.
– О том мы после переговорим, – пообещал Ульянов-Меррик.
И Чекмай сам себе сказал: так, вот и еще парочка приятелей, которые то ли готовы поверить, то ли уже верят англичанину. Во всяком случае, желают верить. Может, Гаврюшка слышал разговор между братьями о важных делах, да сам не понял, какие сведения нечаянно раздобыл? Тогда все складывается: Гречишниковы знали, куда удалось пристроить на службу отрока, а молодцов при лавках и амбарах у них служит немало, найдется и такой, что за рубль родного отца в прорубь спустит.
Сведения же могли быть таковы, что, с Чекмаевой точки зрения, сильно смахивали на государственную измену. Не будучи человеком торговым, не беспокоясь о прибылях, он мог позволить себе удивительную роскошь – думать не о своем кармане, а о государстве. А о том, что из-за прибыли купечество на многие пакости готово, он знал доподлинно.
Примерно представив себе, что могло произойти, Чекмай забеспокоился о старом подьячем. Вряд ли его упокоили в соседней проруби – но куда-то же он делся? Он отправился на поиски внука – и пора бы уже пойти по его следу, коли еще не поздно.
В Успенском храме, кроме отца Памфила, были и другие батюшки, и певчих с десяток, и дьячки, и пономарь Никодим. Чекмаю именно он и попался первым – у самого входа, где сговаривался о каких-то тайных делах с молодой румяной бабой. Этот Никодим и указал домишко отца Памфила, сказав при этом, что старый батюшка, видать, захворал – не пришел вчера к литургии, его искали, да не нашли. Очень Чекмаю такая новость не понравилась.
Он долго и яростно колотил в дверь, никто не отпирал. Наконец пришла старушка с узелком, в узелке был горшок-кашник. Она тоже забеспокоилась, стала причитать, потом вспомнила – да ведь у батюшки в Заречье живет кума, не к куме ли подался? Светлая седмица, всем православным велено праздновать, у кумы, поди, стол накрыт и с мясным, и с молочным.
Представить, что старый опытный подьячий, понимающий, что такое розыск, вдруг позабыл о внуке и увязался за попом в гости к куме, Чекмай не мог. Но проверить следовало.
Он вернулся к собору и стал расспрашивать певчих: не слыхал ли кто о куме отца Памфила?
– Куму Натальей звать, – сказали ему, – Живет в Никольской слободе, сиречь – Владычной, там любого спроси, укажут домишко.
Тут могла быть полезна Ульянушка, которая, как всякая замужняя посадская женщина, свободно ходила по городу и знала многих соседок.
Отпустив Олешку и дав ему деньгу на угощенье, Чекмай спустился к реке и побежал в Зарядье.
Глава 5
Чекмай и его воевода
Гаврюшка еще по-настоящему не выздоровел, был слаб, чем себя занять до возвращения Чекмая – не знал, и Глеб поручил ему растирание краски. Требовалась для поля густая и довольно темная празелень. Был заказан образ по обету – коленопреклоненный святой Митрофан, обращающий моление к Богородице, взирающей на него с левого верхнего угла доски. Заказчик, резчик пряниц Митрофан, ползимы провалялся хворый и всем рассказывал: пока во сне ему не явилась Богородица, и не чаял, что выкарабкается. Однако уже взялся за свое ремесло и радостно резал пряницы из липы и березы. На них был спрос – печатные пряники всякому нужны, их и детям дарят, и женихи – невестам, и кум куме может пряничком поклониться.
Ульянушка вышла в сени, где по зимнему времени держала в тепле своих трех кур с петухом, покормила их, потом выскочила на двор – снять с веревок задубевшее на морозе белье. Вернулась она не одна, а с женщиной средних лет.
– Челом тебе, Глеб Афанасьевич. – Женщина поклонилась. – Нет ли Николы-угодника? Я бы выменяла.
– Опять? – спросил Глеб.
– Так для младшенького! Не могу его в дорогу отпускать, словно нехристя! Никола-угодник должен быть!
– И когда в дорогу?
– После Светлой седмицы. Уже товар собран, осталось увязать. И поедут они, благословясь. Время такое – весна на носу, проворонишь санный путь – плетись две седмицы на струге.
– Так уж и собран? – не поверил Глеб.
Женщина вздохнула.
– Что смогли – то и собрали. Обозы пришли из Ярославля, Костромы, Казани – кожи выделанные, юфть, седла, сбруя. Из Пскова – холсты. А канаты – наши, здешние. Еще на Филипповки пришли обозы с коноплей – и тут же наших баб позвали чесать ее и прясть. А они и рады.
– Глупо как-то выходит, – сказал Глеб. – Как чесать и прясть – так наши бабы за копеечки, как канаты свивать – английские мастера, а мы чем хуже? Неужто перенять некому?
– Не для того английские немчины тут канатный двор поставили, чтобы нас учить. Они своих мастеров привезли, им с того выгода. А канаты, сказывают, хороши и покупают их там, бог весть где, по хорошей цене.
– Ульянушка, сними с кивота нашего Николу-угодника, – попросил Глеб. – Я нам нового напишу. Так что меняемся, Архиповна, я тебе – образок, ты мне – ну хоть меру муки да двадцать копеек деньгами.
– Побойся Бога, Глеб Афанасьич!
– Дешевле меняться нельзя. Хочешь – беги на Ленивую площадку, там тебе наши богомазы еще и не такую цену заломят. Но вот что – можем иначе срядиться. Когда из Англии суда придут, твой Теренко обратно с обозом придет и расплатится со мной заморскими винами. Там-то, у Никольской обители, он у моряков их недорого возьмет. Но муку ты принесешь уже сейчас. Срядились?
– Срядились! – обрадовалась Архиповна, и Ульянушка сняла для нее небольшой образок – как раз такой, что в дорогу брать удобно.
Тут в сенях хлопнула дверь – явился Чекмай.
– Поесть ничего не найдется? – спросил он, скидывая на лавку свой огромный тулуп. – Ульянушка, не в службу, а в дружбу – есть у тебя кто во Владычной слободе?
– На что тебе?
Чекмай объяснил.
Архиповна по природной любознательности не сразу ушла, унося за пазухой образок, а осталась послушать – что скажет этот причудливый молодец с седой гривой, который со спины – пожилое лицо духовного звания, а спереди – завидный жених.
– А я знаю ту куму Наталью! – сообщила она. – Она как раз на берегу живет, и когда приходят бурлаки – сдает им домишко, а сама на лето уходит жить к сестре в Козлену. Пойдем, доведу.
– Отблагодарю, – пообещал Чекмай. – Дай хоть пирожка с собой, Ульянушка… Ох! Вы и не знаете, тут сидючи, а поляки Москву зажгли! В Насон-город человек из Ярославля прискакал.
– Ахти мне! – воскликнула Ульянушка, Глеб прошептал: «Господи Иисусе», а Гаврюшка громко воскликнул:
– Васятка! Говорил же божий человек, говорил!
– Что тебе божий человек говорил? – спросил Глеб, и Гаврюшка рассказал, как вышло, что Гречишников выманил Деревнина из Москвы.
– Дивны дела Твои, Господи! – повторяла, слушая, Архиповна, и по лицу было видно – не терпится ей бежать к соседкам, поведать про такое чудо.
– Сейчас наш воевода эту весть дальше пошлет – и в Каргополь, и в Холмогоры, и всюду, – сказал Глеб.
– Мне бы самому то донесение прочитать, так ведь не дадут! – сердито заявил Чекмай. – Ну так веди меня, Архиповна, что ли…
Он был не очень доволен, что придется идти с бабой и слушать ее бабьи глупости.
Но Чекмаю повезло – на дороге им попался сын Архиповны, Теренко, и баба, сдав ему с рук на руки Чекмая и получив деньгу, побежала по соседкам.
Теренко был крепкий паренек семнадцати лет, очень довольный тем, что взрослые семейные мужики берут его с собой в обоз.
– Обоз у нас богатый – кожи везем, меха, мед, воск, холсты, сколь их за зиму набралось! – похвалился он. – И богоугодное дело сотворим – встанем у Михайло-Архангельской обители, инокам съестного пожертвуем, нарочно берем муку ржаную, горох, крупы. Там, у обители острожек, сказывали, стоит, в нем поживем. При нем – посад вырос, велено звать Новым Холмогорским городком, а все стали звать Архангельским. И у острожка мы суда встретим, когда придут. Тут наши купцы начнут торговаться…
– А ты?
– А я стеречь буду. Там же прибудет дорогой товар – серебро, а то и свинец. И другого заморского товара довольно. А пока будем ждать, я пойду к кормщикам, к вожам, потолкую. Может, опытные вожи возьмут в ученье? У нас, я знаю, парнишки убегали, чтобы выучиться суда водить. Вместе с обозами уходили. Потом, бывало, возвращались, женились… А то и оставались у поморов. Чем плохо?
– Сколько вас у отца с матерью?
– Сынов трое да девки – Машка с Матрешкой. Машку уж сговорили, Матрешка еще глупая, ей тринадцати нет.
За такой беседой Чекмай и Теренко дошли до избы кумы Натальи, крепкой и румяной старухи, из тех, что, беззлобно обругав своего застрявшего на печи старика, сами запрягут лошадку, кинут в санки топор и поедут в лес по дрова.
Поняв, что кум пропал безвестно, она за щеки схватилась:
– Ахти мне, беда, беда! Я сама его в воскресное утро ждала! Бежать-то ко мне по речке недалеко. Куда ж он, горе мое, подевался?
– Речка… – пробормотал Чекмай. – А что, не было ли слышно, что из проруби кого-то вытащили? Может, наш батюшка свалился, добрые люди спасли, и он теперь у кого-то дома в жару лежит?
Рассуждал Чекмай так: коли Гаврюшку по неизвестной причине пытались утопить, может, у злодея это любимое занятие – людей в прорубь пихать? В том, что покушение на отрока, исчезновение его деда, затеявшего розыск, и второе исчезновение – человека, к которому первым делом отправился подьячий Деревнин, как-то меж собой увязаны, Чекмай уже не сомневался.
Растолковав куме Наталье, что ей следует делать, Чекмай с Теренком пошли прочь.
– Коли он где-то здесь – она его из-под земли выкопает, – сказал Теренко. – И батюшка, и тот подьячий – не парнишки, чтобы за обозом увязаться.
– А что, в ту пору обоз уходил?
– Да уходил, поди… Они теперь часто пойдут.
– Так уходил или нет?! – рявкнул Чекмай.
– Ушел… Вот те крест, ушел!
– Они спозаранку уходят?
– Да…
– И как идут?
– Иной – по реке, по льду. Лед гладкий, лошадки ходко бегут.
– Так ведь петляет река-то!
– Пока еще не петляет, всего лишь небольшой крюк сделать придется. А потом – опытные люди знают, где на берег выходить, где опять по реке бежать можно.
– Как полагаешь, Теренко, далеко ли тот обоз ушел?
Парень задумался.
– Мужики коней берегут, не хотят зря изнужить, дорога долгая. Да и сани тяжелые…
– Сколько верст в день обоз может пройти?
– Да верст тридцать, поди. Может, сорок. Вряд ли больше. Смеркается рано, в потемках идти нехорошо.
Чекмай задумался.
– Причудливое дельце… Ох, причудливое… Ин ладно. Ты, Теренко избу богомаза Глеба знаешь?
– Как не знать!
– Коли что проведаешь, или кума проведает, беги туда.
И он направился к Насон-городу в надежде, что ярославский гонец еще что-то поведал и мужчины, что столпились у воеводской избы, уже вовсю это обсуждают.
По дороге он понял, что нужно сделать одну важную вещь.
Не то чтобы важную – дело, ради которого Чекмай прибыл в Вологду, было куда значительнее поисков старого подьячего и отца Памфила, а также Гаврюшкиной судьбы: жив остался – и слава богу. Но и пренебрегать ею нельзя…
Гаврюшкина мать, поди, вся слезами изошла. Надобно ее пожалеть.
Чекмаю нужно было как-то попасть на анисимовский двор, да так, чтобы на него там кобелей не спустили. Он вокруг того двора постоянно околачивался, высматривая, кто из купечества приезжает к хозяину для ужина и застольной деловой беседы. Может статься, сторожа уже его приметили или же вскоре непременно приметят. А прийти сказать матери, что сын жив, – это ли не причина стучать в ворота? Но он торопиться не стал. Эта женщина взята в купецкий дом из милости. Порядки там, возможно, строгие. Если неведомо какой молодец прибежит да станет встречи домогаться – не прогнали бы ее со двора взашей, потому что хозяину померещились блудные дела.
И он решил отправить к Настасье Деревниной Ульяну. Мало ли зачем одна баба другую ищет.
Ульянушке он все объяснил вечером.
– Скажешь так, – велел Чекмай. – Сынок-де у добрых людей, жив, прихворнул, вернется во благовременье. И – все! Никаких долгих разговоров, тут же прочь беги.
– Так и сделаю.
Ульянушка и до замужества была довольно бойка: убежать с любимым – это ж какой норов нужно иметь. В Вологде, на новом месте, ей самой пришлось заводить хозяйство, знакомиться с людьми, ходить на торг и там торговаться за каждую полушку. Вологжане не сразу признали Глеба – своих богомазов хватало. И тут большая польза была от Ульянушки, которая рассказывала бабам о муже. И самой Ульянушке была польза – она присматривалась к деятельным и языкастым вологжанкам, училась бабьей смекалке и ловкости.
Поэтому она сообразила: нужно вызвать ту Настасью Деревнину во двор, а не ломиться к ней в купецкие палаты. Повод для встречи нашелся на рабочем столе Глеба – образок Богородицы; обещала-де принести, чтобы выменять на сережки московского дела.
Анисимовские ворота были отворены, во двор въезжали сани с дровами, так что Ульянушка вошла без помех и сразу смело обратилась к сторожу: пусть-де пошлет кого из дворовых девок в купчихины покои, чтобы вдова Настасья, недавно взятая в дом, спустилась ради важного дельца. И был показан образок – новенький, свежий, написанный на продажу.
Ждать пришлось недолго – Настасья вышла на высокое крыльцо покоев купчихи Ефимьи Савельевны.
– Ты, что ли, меня ищешь? – спросила сверху она.
– Коли ты – Настасья Деревниных, то я, спускайся скорее!
Настасье и в голову не пришло перечить – раз так звонко и строго сказано, нужно спускаться.
Ульянушка удивилась – у матери, чей сын безвестно сгинул, лицо должно быть заплаканное, а эта матушка весела и сверх меры нарумянена (Ульяна не знала, что Ефимья со всем пылом души взялась опекать и баловать свою новую подружку с ее дочками).
Что-то тут было не так.
– Сынок твой тебе кланялся, – осторожно сказала Ульянушка.
– Господи! Как он? Здоров ли?
– Малость прихворнул.
– Так я и знала! Ты, свет мой, когда твой муж или брат поедет с обозом, вели ему передать… – Настасья быстро вынула из ушей серьги. – Пусть там, в Холмогорах, продаст, да чтоб за ним старшие посмотрели – не продешевил бы. И еще передай – дед у нас пропал, поехал его искать да и пропал. Да еще вели ему сказать – пусть возвращается, никто его корить и наказывать не станет!
– Передам, – сказала несколько ошарашенная Ульянушка.
Ей бы следовало спросить, откуда такие вести, будто бы Гаврюшка в Холмогоры уехал. Она бы и спросила – кабы не пришла сюда по заданию Чекмая. Чекмай же был другом ее Глеба и, поселившись у него в Заречье, сразу сказал им обоим: прибыл по опасному дельцу, так чтобы держали языки за зубами.
– И еще пусть ему скажут – я за него денно и нощно Бога молю! И еще – когда вернется, никому на него кричать не позволю! Что – свекор? Свекор, того гляди, совсем ослепнет и из ума выживет… Плевать я на него хотела!
В глазах Настасьи была такая неслыханная отвага, что впору садиться на воеводского коня и вести войско в бой за Москву.
– Так и велю передать. А тебе вот образок…
Образок муж дал не для того, чтобы Настасье дарить, но у Ульянушки крепко засело в голове: Настасья якобы должна ей дать серьги и в промен взять образок.
– Да что ты, мой свет! Пусть вдогонку Гаврюшеньке пошлют! Пусть он там, в Холмогорах, Богу молится… А я тут буду свой грех замаливать.
Ничего не поняв, Ульянушка поклонилась и побежала прочь со двора.
Когда поздно вечером пришел Чекмай, она вышла к нему из-за холщовой занавески, которой отгородила супружеское ложе, и сказала:
– Вот что, дедушка. Либо у меня уже ум за разум зашел, либо у той Настасьи.
– У нее, – сразу ответил Чекмай. – Ну-ка, рассказывай.
Услышав, что Гаврюшка, мирно спящий на лавке, сейчас за каким-то бесом едет в Холмогоры, Чекмай хмыкнул и почесал в затылке.
– А ведь я был прав! Глебушка, вылезай. Я-то прав был!
Глеб в рубахе и портах, босой, вышел на зов.
– И в чем ты был прав, дедушка?
– А вот в чем – это дело с пиханием отрока в прорубь связано с тем делом, по которому я приехал! Митя! Митька! Вставай!
Митьке было постелено на полу, на войлоках. Он сел, протер кулаками глаза и, спросонья плохо соображая, заявил:
– Трофим Данилыч, я сейчас, только фигурки соберу…
– Это он с Белоусовым разговаривает, – усмехнулся Глеб. – Совсем детинушка заигрался.
Наконец все четверо сели за стол.
Митька плохо понимал, что происходит, но успел прихватить с собой кубики для зерни и вертел их в пальцах, чтобы не заснуть.
– Вот что я во всем этом вижу, – сказал Чекмай. – Настасья Деревниных не знала, куда подевался Гаврила, и когда старый Деревнин поехал на поиски – тоже еще не знала. Он же ей велел, взяв дочек, переселяться к Анисимову, благо каптана подана и кучер ждет. Ослушаться она не могла, поехала к Артемию Кузьмичу и его женке, приехала – и вот именно там ей сказали, что наш Гаврила отправился в Холмогоры… но зачем?..
И тут Чекмай охнул – вспомнил разговор с Теренком.
Понемногу в голове выстраивалось то вранье, которым попотчевали Настасью.
– Так! Ей сказали, что он боялся наказания от деда и, как иные вологодские парнишки, поехал с обозом – авось его, знающего грамоте, кто-нибудь там, в Холмогорах, пригреет, или же померещилось ему, что может стать мореходом. Когда отрок живет при таком деде и света белого не видит, диво еще, что не собрался в Персию бежать. А зачем бы ей это сказали?
– Успокоить желали, – ответила Чекмаю Ульянушка.
– Успокоить до поры, – добавил Глеб. – О том, что Гаврюшка жив остался, знаем только мы. А все прочие…
– Прочие знают лишь то, что пропал, – заметил Митька, бросил кубики и получил три белых квадрата и три черных; зернь, стало быть, подсказала, что дельце очень сомнительное.
– Кроме того, кто его в прорубь сунул, и того, кто этому злодею приказал порешить Гаврилу.
– И все равно непонятно – за что?
– Если в это дело замешался Анисимов – статочно, решил, будто Гаврила что-то лишнее узнал. А что он мог узнать по дороге в Вологду?
По-всякому они вчетвером судили да рядили, наконец додумались: возможно, дело не столько в несмышленом Гаврюшке, сколько в его суровом деде, который был подьячим Старого Земского двора.
– Стало быть, Деревнина выманили на розыски внука? Похоже на то, – сказал Чекмай. – Что же он такое мог узнать? И не знает ли это Настасья? Коли знает – ее жизнь в опасности.
Митька бросил свои кубики.
– Царь небесный, впервые такое вижу! Вся шестерка – черные!
– Не к добру, – согласился Чекмай.
– Не к добру, – подтвердил и Глеб. – Да только что ты сейчас, среди ночи, можешь сделать? Ложись-ка ты, брат, спать, утро вечера мудренее. Пойдем, Ульянушка.
– А если тебе охота до утра за столом сидеть и голову ломать, то на здоровье. Только свечку, Христа ради, погаси, не то натворишь беды, – попросила Ульянушка.
Муж и жена ушли за занавеску. Митька улегся на своих войлоках и долго вертелся, стараясь и на плечи тулуп натянуть, и босые ноги укрыть.
Чекмай же взял с Глебова стола образок святого Димитрия Солунского.
– Пресвятой угодниче Божий Димитрий, моли Бога о нас, – сказал он. Так следовало начинать всякий разговор со святым угодником, а дальше – можно и своими словами, не акафист же читать – он длинный, всего не упомнишь, и неведомый инок, его в давние времена составивший, не мог предвидеть, для чего будет обращаться к святому раб Божий по прозванию Чекмай, имя же его Господь ведает.
Для Чекмая же прекрасный кудрявый воин с тонким копьем был сейчас гонцом, посланцем, потому что иначе передать свои мысли и свою тревогу он не мог.
– Как-то он там? – спросил святого угодника Чекмай. – У воеводской избы таких врак наслушаешься… Но в мертвых не числят. Сказывали – ранен. Как оно все неладно: он – там, а я, вишь, здесь, он там кровь проливает, а я здесь ношусь, как угорелый, пытаясь понять, кто из московских бояр подкуплен проклятыми англичанами. Знают это купцы, знают – да мне не скажут. И кто из купцов заварил эту кашу – тоже неясно. Анисимов – да, без него не обошлось, но есть и другие. Ульянов со своими – непременно в деле. И теперь, когда ляпуновское ополчение мало чего добилось, как исхитриться, чтобы не собралось вдруг вологодское ополчение на английские деньги? От такого войска жди беды… Кто, кто из Кремля на их стороне? А, пресвятый угодниче Божий? Кто?
Чекмай помолчал.
– Исцели его, святой Димитрий. Ты его покровитель небесный – исцели! Он нам нужен. Коли не он – совсем плохо будет… Второго такого воеводы у нас нет…
Святой молчал.
– Жив ли?..
И тут ответа не было. Сперва не было. А потом Чекмай вдруг словно бы услышал, и даже не слова услышал, а нечто вроде дуновения ветерка, несущего смысл: изранен, но жив…
Чекмай перекрестился.
– Стало быть, продолжается мое сражение, Господи…
С тем он и лег на лавку. Господь был милостив – сразу послал крепкий и хороший сон.
Утром Чекмая разбудил Митька.
– Вставай, вот-вот у Ульянушки каша поспеет. А пока – не сразимся ли в тавлеи? А?
Митенькина страсть к играм была причиной того, что он, дожив до сорока почти лет, ходил неженатый и не знал толком никакого ремесла. То есть мог помогать Глебу, поскольку имел дело с деревом и наловчился резать по нему нужные для иконных рам узоры, но заниматься этим постоянно был неспособен, ему все казалось, что крадет время у любимых шахмат. Умел он и за конями ходить, опять же – кто возьмет в конюхи человека, у которого зернь да кости на уме? Было однажды – нанялся к боярину, да всю дворню и совратил: обучил игре в тавлеи, нашел себе достойных поединщиков, две седмицы был счастлив неимоверно, потом приказчики донесли боярину, и Митьку погнали взашей.