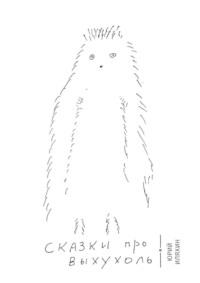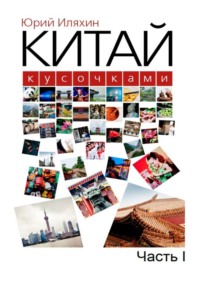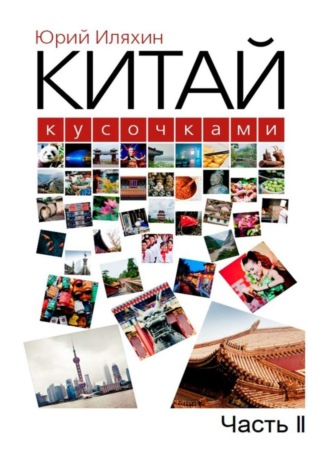
Полная версия
Китай кусочками. Часть II
Конечно, в современном искусстве Китая есть личности другого плана, например, / , признанный в мире ведущим деятелем нового творчества. Часто он покорял публику и критиков масштабами работ, взять хотя бы его композицию из 100 миллионов фарфоровых семечек в Лондоне или отправку на экскурсию в Европу 1001 «простого китайца» за счет художника. Но еще более он известен инакомыслием, выступлениями против коррупции и злоупотреблений властей, отстаиванием прав личности. Официальный Пекин считает его опасной политической фигурой, арестовывает, запрещает выставки. Однако неустрашимый Ай Вэйвэй получил хорошую жизненную закалку, у него был пример. Его отец, выдающийся поэт / был отправлен в ссылку маоистскими властями – также за свободомыслие – и провел 16 лет за чисткой общественных туалетов в глухих районах северо-востока. Ай Вэйвэй Ai Weiwei Ай Цин Ai Qing
Мало арт-зоны 798? Тогда отправляйтесь на восток от Пекина в арт-деревню -/ , что по дороге в городок / городок-спутник столицы. Сунчжуан и шу цунь Songzhuang yishu cun Тунчжоу Tongzhou,
В середине 90-х в этот тихий поселок переселились авангардисты, обитавшие ранее в старом императорском парке Юаньминъюань. Коммуна художников прижилась в деревне Сунчжуан, несмотря на трудности, к примеру, постоянные требования крестьян, владельцев арендуемых домов и участков, повысить плату или вовсе убраться (когда благодаря художникам и пришедшей известности стоимость земли и домов выросла на порядок), несмотря на негативное спервоначала (как бы чего не вышло…) отношение местной администрации. Однако власти на самом верху поняли, что поселок современного искусства особого идеологического вреда не причиняет, наоборот, говорит миру об открытости Китая. Он сохранился и развивается теперь под присмотром властных кураторов.
Поселок старый, многие художники и скульпторы обосновались в традиционных одноэтажных домиках с внутренним двориком. Но тут же рядом выстроились новые ангары, павильоны и целые музейные комплексы. Современная живопись и скульптура, мультимедийные проекты соседствуют с вполне национальными произведениями в стиле го-хуа, каллиграфией, какие обычно выставляются в Китайском художественном музее / в центре Пекина. Искателей букинистических сокровищ удача может поджидать прямо у рассекающей деревню дороги, где на земле выкладывают свой товар книжники. При мне жар-птицу удачи поймал Артем Кобзев, приобретя редкое тайваньское издание средневекового романа с иллюстрациями, за которым долго гонялся, а нашел здесь по вполне смешной цене – примерно в десять раз дешевле, чем можно отыскать в сети. Чжунго мэйшу гуань Zhongguo meishu guan
Секреты фарфоровых черепков
Крестьянин шел по дороге и нес на плече кувшин. Вдруг оступился на выбоине, кувшин упал и разбился. Не оборачиваясь крестьянин продолжил свой путь. Некто встречный спросил: «Кувшин упал и разбился, а ты даже не обернулся. Почему?» Крестьянин ответил: «Какой смысл смотреть на черепки?» И пошел дальше.
Такая вот китайская история, которая мне очень нравится. Не пили опилки, как говорит моя дочь Лида, не жалей о случившемся в прошлом, ведь ты не можешь его изменить.
Но есть в Китае люди, которые со мной не согласятся, это вот как раз такие странные люди, любящие смотреть на черепки. А точнее – на осколки фарфора. Они их собирают, коллекционируют, обменивают, продают и покупают. Не только китайцы увлекаются осколками прошлого. Мой друг журналист Андрей Кириллов, скажу вам по секрету, тоже обожает искать и находить драгоценные сокровища – фарфоровые осколки. Как-то в российском посольстве в Пекине чистили каналы и пруды. Территория посольства весьма обширна, это не только стандартные строения в простом до скуки советском стиле, но и роскошный парк, похожий на ботанический, а также – беседки и дорожки, и, конечно, вода – каналы, пруды. Вот их и задумали очистить от ила и сора. По берегам выросли валы влажной вязкой земли.
Тут-то Андрей и стал выходить на охоту. Под видом выгула похожей на рыжую лисичку любимой собаки Мартины, а иногда без всякого вида он ходил вдоль каналов и выискивал белеющие в грязевых отвалах осколки. С синими, темно-синими, иногда желтыми, коричневыми или розоватыми линиями и разводами—рисунками, кусочки чашек и чайников, тарелок и кувшинов, ваз и горшков. Груда найденных сокровищ росла, древняя земля нередко отдавала накопленное веками.
Поиск черепков напоминает старую игру в «секретики», вообще-то девчоночью, но и мальчишки в нее тоже играли. Надо было во дворе зарыть в землю «секретик» и потом его найти. Что он из себя представлял?
Сложенные покрасивее фантик или фольга, железный солдатик, или блестящая пуговица, или яркая тряпочка. Но главное – сверху ямку с «секретом» следовало прикрыть стеклышком, засыпать землей и притоптать. И вот, закопав сокровище, надо вроде как бы его забыть, чтобы потом одному или с кем-то начать отыскивать. Раскапываешь землю, вроде здесь закапывал – или нет? А вдруг кто-то уже нашел?.. Но ура, блеснуло стеклышко, словно оконце с синим небом и облаками. Нашел «секрет»! Полный детский восторг открытия. Восторг находки.
Такой же азарт и восторг, предполагаю, испытывают при поиске фарфоровых осколков. В Китае это занятие весьма популярное. Хотя бы потому, что доступно всем и не требует затрат. Главное узнать, где, когда и что сносят, и успеть первым. Большое раздолье этой охоте открылось в Пекине с началом масштабного строительства и массового сноса старых кварталов. Я не раз замечал осколочных поисковиков, рыскающих на руинах скопищ одноэтажных халуп. Иногда это бывает опасно, как-то неосторожного любителя черепков накрыла рухнувшая стена строительного котлована.
Коллекционеры общаются, устраивают выставки. Осколочные россыпи можно видеть на Паньцзяюане и других блошиных рынках. Более всего – на воскресном рынке у Храма Защиты отечества, -/ на юго-западе, у пересечения улиц Гуанъаньмэньнэй и Ню-цзе. Недалеко от Пекинского вокзала открыли Музей образцов древних фарфоровых осколков Муминтан (Mumingtang gu cipian biaoben bowuguan). В этом здании раньше был чайный дом, там до сих пор сохраняется старая обстановка, и можно, устав от осмотра, не спеша попить горячего лунцзина или улуна. В музее выставлены сокровища начиная с эпохи Западная Хань. Основу составляют экспонаты времен Тан и Сун, когда славились своими вазами, блюдами, чашами так называемые «пять знаменитых печей», фарфоровых заводов, поставлявших продукцию для императорского двора. Знатоки по одному лишь фрагменту могут довольно точно установить не только время, но и место изготовления предмета. Бао го сы Baoguo si
Отыскать осколки можно везде. Не только на строительных развалинах, но и у стен старых храмов, на аллеях древних парков. После сильного дождя идешь и смотришь на утоптанную землю (неутоптанную землю в обжитых местах найти в Китае почти невозможно, за исключением парков), и ба! – что-то белеет. Осколок белым или синим пятнышком сидит в земле, надо его подковырнуть. Так, достали! А, ничего интересного. Опять что-то новое…
А вот это уже кое-что интересное: вросший в фарфоровую плоть синий рисунок, края черепка окислены, вещь явно старая. И чудо – рисунок сохранился почти целиком: сорока на ветке. Эпоха Мин вроде бы, судя по тому, что птица с повернутой головой, так было принято тогда их изображать, но может, даже более ранняя – Юань? В коллекцию ее!
– Как-то раз, несколько лет назад, пошел я с подругой вечером погулять, – сказал Сеня. – А жил тогда возле пекинского вокзала, ну, который в центре. Только что дождь прошел, сильный, полдня лил. Мы забрели на остатки сторожевой стены. Туда раньше не пускали, а тут вот затеяли реконструкцию. Народу никого, охранников дождь разогнал, все перекопано, ворота открыты, мы и зашли. Старая стена, широченная, она Пекин окружала, вся почти разрушена, землей завалена. Ливень эту землю разрыхлил, размыл. Черепки и повылезали, как грибы. Синенькие, желтенькие, потолще, потоньше. Некоторые с рисунками. Интересно! Я-то сам не собираю, но слышал, и азарт появился. Дай, думаю, чего-нибудь найду! Я ботинки снял, подруга босоножки скинула, и давай гулять по желтой глине, осколки высматривать. Глина мягкая, теплая. Наковыряли целую кучу, даже нефритовые попались. Там еще старик какой-то бродил, тоже собирал, он сказал, в том месте была когда-то мастерская по обработке нефрита. В общем, набродились мы тогда и насобирались вдосталь. Целый пакет целлофановый.
– А где теперь эти черепки? – строго спросил Отшельник Сун.
Сеня смутился.
– На балконе, в кадке с цветами.
– Почему в кадке?
Сеня смутился еще больше.
Разбить или оценить
Ведущий стоит возле столика, на котором красуется ваза. Он держит в руке молоток и вопрошающе смотрит на владельца вазы. Тот нервничает, переминается с ноги на ногу, но ни слова не говорит. Ведущий замахивается – и разбивает вазу. Хозяин опускает голову. Проиграл.
Такую игру ведут на одном из центральных каналов китайского телевидения. Ты приносишь антиквариат. Это может быть ваза, шкатулка, бронзовая статуэтка, картина, вышивка на шелке, нефритовый диск или браслет, что угодно. Вещь передается для изучения членам экспертного совета. Они сидят тут же, на сцене. Обсуждают, оценивают.
Хозяин пока не знает, какая судьба уготована его драгоценности. Фальшивка это или произведение искусства. После того, как жюри выносит вердикт и сообщает на ушко ведущему, тот принимается пытать владельца. Рискнет он продолжить испытание или нет. Можно снять предмет со стола, унести, если не уверен в его ценности и подлинности, но можно и оставить. Если это подделка – ее уничтожат, владелец уйдет с пустыми руками. Если вещь стоящая – получит сертификат качества от экспертов, цена значительно вырастает.
Во время этой игры специалисты дают оценку качества, определяют примерный возраст, происхождение. Хозяева волнуются. Некоторые вещи передаются в семье из поколения в поколение. Неужели подделка? Или – гордость коллекции!
Есть и менее суровые варианты телевизионной оценки антиквариата, в которых владельцу возвращают его драгоценность, не уничтожая ее, но лишь сообщая реальную стоимость.
Вместе с участниками таких передач переживают и зрители. У многих хранятся семейные реликвии или же предметы искусства, купленные самолично. Каждый примеряет ситуацию к себе и своему сокровищу, сравнивает. Игра будоражит нервы, развлекает, но и помогает разобраться в мире китайского антиквариата.
Пекинская опера – цзин-цзюй
Говорят: «Если хочешь понять Китай и китайцев, полюби пекинскую оперу».
Сразу скажу: задача это почти невыполнимая. Нет, конечно, научиться слушать-смотреть-терпеть шумное и непонятное поначалу действо можно. Но полюбить… Чтобы полюбить нечто, надо в этом «нечте» разбираться, надо это «нечто» знать. Чтобы полюбить китайскую оперу, нужно родиться китайцем или вырасти в Китае, с младенческого возраста слушая бабушкины сказки и колыбельные, потом учиться в китайской школе, читать – и все это время слушать-смотреть оперу. Еще один вариант, экзотический: втрескаться по уши в пекинскую оперу уже в зрелом возрасте, позабыть семью, забросить дела, поменять профессию и уйти с головой в мир «разрисованных лиц». Так иногда поступают иностранцы, которые, сдвинувшись на Китае, хотят стать китайцами больше, чем сами китайцы.
Для всех остальных пекинская опера остается тайной за семью печатями, ярким и часто оглушающим зрелищем, долгим и утомительным, потому что в оригинальном исполнении идет несколько часов. О чувствах, которые испытывает новичок, попавший без подготовки на такое представление, академик В. М. Алексеев, выдающийся китаевед петербургской школы, знаток китайской культуры, в 40-е годы прошлого века писал так: «…из китайского театра впервые попавший в него зритель бежит в ужасе, проклиная китайскую музыку и совершенно отказываясь считаться с ней как таковой при наличии в мире Моцарта и Бетховена…»
Впрочем, он же в захватывающей книге «В старом Китае. Дневники путешествия» отмечает, что китайский театр, с его предельной условностью и символичностью всего происходящего, для нас, иностранцев, так же необычен и странен, как для китайцев, допустим, европейская опера, где в придачу к непонятному пению и нелепому действию на сцену могут вывести живую лошадь – с точки зрения китайцев совершенно дикое и недопустимое смешение условности и реальности…
Китайцы жалеют иностранцев и делают для нас сокращенные версии известных опер, с английским переводом-титрами на экранах по бокам сцены, с обилием цирковых номеров, демонстрацией боевых искусств, в общем, этакий легко усваиваемый туристический вариант. Облегчает восприятие оперы почетная привилегия, предоставляемая первым рядам партера. Собственно, не рядам, а столам у самой сцены. На них VIP-зрителей ждут чай, сладости и семечки. В китайском театре было принято закусывать. Да и сейчас на праздничных спектаклях для самых дорогих гостей в особо торжественных случаях иногда накрывают полноценный стол с чередой яств и напитками.
Если вы, несмотря на все трудности и препятствия, готовы, подкрепившись семечками, понять/полюбить пекинскую оперу как часть китайской культуры, то грех не воспользоваться этим предчувствием любви и дать о ней самые общие знания. Тем более что пекинская опера – / буквально – «столичная драма», в самом деле стала жемчужиной китайского искусства. А поскольку только глубоко национальное способно стать интернациональным, эта опера является также и достоянием мировой культуры. цзин-цзюй jingju,
Как она родилась
По меркам китайской истории – сравнительно недавно, в конце XVIII века. В 1790 году цинский император Цянь-лун праздновал день рождения.
Шел 55-й год его царствования. Ему исполнялось восемьдесят. Замечу, что столь долгое правление было нечастым явлением в Китае, где срок пребывания на троне нередко не превышал нескольких лет, а порою составлял считанные месяцы. Нелегкая доля монархов. Заговоры, мятежи, «неожиданные» болезни, прямые и откровенные убийства… Впрочем, это беды всех монархий со сколь-либо долгой историей.
Цянь-лун хотел отметить юбилей с особым размахом. Чиновничья рать необъятного Китая из кожи вон лезла, стремясь отличиться в глазах высшей власти. А как лучше отличиться? Зрелищем, конечно. Тем более что император был ценителем и покровителем искусств. В столицу из провинций были отправлены лучшие театральные труппы. Особенно много из Цзяннани, Южноречья – обширного и щедрого края к югу от Янцзы, обители талантов: поэтов, художников, музыкантов, певцов и танцоров. Посланцы Южноречья и других краев выступили на славу, торжества прошли с блеском, император блаженствовал. Но еще счастливее были провинциальные артисты, которые воспользовались возможностью остаться в столице.
Принято считать, что пекинская опера взяла лучшее из каждой местной оперной и актерской школы. Где-то лучше пели, где-то искуснее танцевали с веером, где-то превосходно декламировали и выражали чувства движением и жестом, где-то блистали акробатическими трюками, где-то – боевыми искусствами. Всё слилось воедино в цзин-цзюй.
Впрочем, существует иная точка зрения, согласно которой основу знаменитой на весь мир оперы заложили участвовавшие в торжествах актерские труппы из провинции Аньхуэй, которые, в свою очередь, любили исполнять мелодии соседней провинции Хубэй.
С этой версией спорит другая: корни следует искать в куньшаньской опере, -/ , зародившейся на рубеже эпох Юань (1271—1368) и Мин (1368—1644) в районе Куньшань провинции Цзянсу, а также в театральной школе -(шэньсийская опера), начиная с эпохи Мин получившей распространение на северо-западе Китая, в провинциях Шэньси, Ганьсу и Цинхай. кунь цюй kunqu цинь цян
Несомненно одно: цзин-цзюй берет истоки в выше названных музыкальных театрах или местных операх – -/ , аньхуэйской, хубэйской и других. В ходе творческого обмена между разными направлениями сценического искусства с годами сформировался оригинальный театральный жанр, объединивший изысканность куньшаньской оперы с живой энергетикой основанных на народных традициях театральных школ, процветавших на берегах Янцзы и Хуанхэ. бан цзы bangzi
Итак, все эти потоки слились в единую реку в столице. Здесь актеров приветствовали многочисленные ценители, здесь были превосходные площадки для выступлений. Особенно много трупп работало в прославленном месте развлечений Тяньцяо (Небесный мост), к югу от Тяньаньмэнь, центральной площади Пекина. Там на улице Большие заборы – Дашилар (это на пекинском диалекте, правильнее – / , хотя говорят еще и Дашилань, и Дашалар) в 1796 году открылся театр Терем обширной благодати, -/ , который китайские театралы сравнивают по роли в культурной жизни страны с Гранд-Опера в Париже, Ла Скала в Милане и Большим театром в Москве. «Терем» стал своего рода академией цзин-цзюй. На сцене Гуан-дэ лоу в разное время выступали самые искусные мастера цзин-цзюй. Дачжалань Dazhalan Гуан дэ лоу Guangde lou
До начала XX в. четко соблюдалось правило: мужчины и женщины не должны выступать вместе, труппы были или женские, или мужские. (В разделении по половому признаку Китай не одинок: при расцвете театра в елизаветинской Англии в конце XVI – начале XVII вв., в блистательную шекспировскую эпоху, все женские роли исполнялись юношами, театр служил мужской забавой.) Со временем это правило размывалось, образовывались смешанные труппы. Некоторые выдающиеся исполнительницы выступали в составе традиционных трупп. Наибольшую славу приобрела -/ (1907—1977), происходившая из известной оперной семьи и выступавшая в амплуа положительного пожилого героя, -. Мэн Сяо дун Meng Xiaodong лао шэн
Вокруг театров пекинской оперы возникали общества ее любителей -/ , которые образовывали творческую среду и своим энтузиазмом поддерживали мастеров-профессионалов, а также сами выступали с концертами в частных домах или общественных заведениях – -/ . пяо ю piaoyou пяо фан piaofang
Цзин-цзюй обрела зрелость и получила широкую известность к середине XIX в., а расцвета достигла к 20-м годам следующего столетия.
? О чем она
Основой сюжетов служат исторические сочинения и жизнеописания, сказки и легенды, а также популярные произведения литературы, драматургии. В традиционный репертуар входило в разное время более 1300 произведений, в наши дни исполняют свыше 200 самых популярных пьес, которые подразделяются на 7 категорий: нравоучительные (назидательные), о преданности и долге, исторические, дворцовые, судебные, любовные и волшебные. Оперы как правило заканчиваются на светлой ноте: злодеи посрамлены, добродетель торжествует. Вот наиболее ходовые сюжеты: «Сирота из рода Чжао», «Легенда о Белой змейке», «Князь навеки прощается с наложницей», «Тройная развилка», «Переполох в небесном дворце», «Примирение полководца и первого министра», «Западный флигель», «Захмелевшая наложница», «Пионовая беседка», «Хитрость с пустым городом», «Снег в июне».
В сказке о Белой змейке говорится, что она жила-поживала в синем озере вместе со своей служанкой Зеленой змейкой и не знала горя тысячи лет… Вообще-то, если смотреть правде в глаза, она была обычной волшебной феей по имени Бай Су-чжэнь, которая много лет следовала учению Будды, достигла духовного совершенства и овладела мастерством перевоплощения. Но, надо же такому случиться, обернувшись в очередной раз прекрасной девушкой (а кем, спрашивается, ей еще оборачиваться?), она вдруг увидела столь же прекрасного юношу на Оборванном мосту на Западном озере. (Ныне – то же самое живописнейшее Западное озеро, Сиху, в Ханчжоу. А мост «Оборванным» прозвали потому, что в морозные дни покрытый изморозью, дугою выгнутый мост в лучах солнца, если смотреть снизу на его изгиб, слившись с небом, вдруг словно исчезает из виду.) Юноша запал в сердце, Белой змейке так захотелось узнать, что такое земная любовь… Что потом? Они поженились. Но не в том печаль. Хотя многие сказки, как мы знаем, на этом благоразумно заканчиваются. Беда в том, что юный муж поверил злому монаху-колдуну и предал волшебную жену.
Ария, в которой Белая змейка упрекает слабовольного мужа, одна из самых известных в пекинской опере:
О, женская доброта! В конце концов Белая Змейка все-таки простила мужа и, будем надеяться, они жили долго и счастливо.
Роли и маски
Четыре основные амплуа пекинской оперы: мужские роли – , женские – , персонажи «с разрисованным лицом» – и комики – . шэн дань цзин чоу
Все называются / . Героини знатного происхождения, степенные и чинные, верные супруги и добродетельные матери, зачастую терпящие страдания и лишения, зовутся -/ («правильные дань»), или же -/ («женщины в черной одежде»), так как предстают на сцене преимущественно в нарядах этого цвета. Для них главным является вокальное мастерство. Их арии должны звучать мелодично, изящно и изысканно, с нежными переливами, а движения отличаться величавостью и сдержанностью. Прославленный на весь мир -/ (1894—1961) получил известность прежде всего благодаря непревзойденному исполнению ролей -, хотя с не меньшим блеском выступал в других амплуа, например, женщин-воительниц. женские роли дань dan чжэн дань zhengdan цин и qingyi Мэй Лань фан Mei Lanfang чжэн дань
Существует еще несколько разновидностей амплуа . Молодые женщины, -/ n («дань-цветок», «цветущая дань») – как правило, наивные простушки и бойкие кокетки, разбитные служанки или простолюдинки. Их главным сценическим инструментом являются жест и декламация, в основном с использованием простонародного пекинского говора. Типичная роль такого плана – бойкая служанка Хун-нян из одноименной оперы «Красная девица», -/ . дань хуа дань huada «Хун нян» «Hongniang»
В амплуа пожилых женщин -/ артисты, обозначая возраст, передвигаются неторопливо, ставя носки немного врозь, или, наоборот, внутрь. Вокальные партии исполняются в естественной манере, без особой постановки голоса. лао дань laodan
Амплуа молодых женщин, преуспевших в боевых искусствах, то есть воительниц, военачальниц, богинь, женщин-рыцарей, злых фей, ведьм, называются -/ («дань-воительница») или –/ («дань на коне с мечом»). Их выступления сопровождаются оглушительной дробью барабанов и звуками гонгов, создающих атмосферу сражения. Как и воины-мужчины, они нередко облачены в сценический воинский костюм / , прообразом которого стали средневековые доспехи китайских латников. Четыре флага за спиной восходят к «знаменам приказа», означавшим особые полномочия, они говорят о том, что их обладатель (обладательница) ведет боевые действия. у дань wudan дао ма дань daomadan као kao
Воинов, и женщин и мужчин, легко отличить по яркой детали: за плечами высокими «усами» колышутся два тонких фазаньих пера.
/ подразделяются на амплуа зрелого мужчины -/ , юноши -/ и военного -/ . -обычно среднего или преклонного возраста, честный и стойкий, строгий и важный, с окладистой бородой и усами, цвет которых говорит о возрасте: черный символизирует расцвет сил, белый – почтенную старость. Игра -характеризуется тонкими оттенками, движения полны достоинства. Актеры -, юноши без усов и бороды, используют комбинированную технику пения – естественный голос и фальцет, придерживаются броской манеры исполнения, подчеркнуто изящной и непринужденной. Пение не их конек, зато они обязаны ловко двигаться, фехтовать. Но еще большей физической подготовкой должны обладать актеры амплуа – мастера сценического боя, акробатики, фехтования. Именно они исполняют требующую особой пластичности и «моторности» роль Сунь У-куна, «Царя обезьян», пьесы о похождениях которого составляют весомую часть репертуара пекинской оперы. Мужские роли шэн sheng лао шэн laosheng сяо шэн xiaosheng у шэн wusheng Лао шэн лао шэнов сяо шэн у шэн
А вот кто просто обязан петь, так это – / (также – -/ , -/ ). Это самые колоритные типы: герой c необычной внешностью или характером, чаще всего военачальник или легендарный деятель, или же человек знатного происхождения, высокого звания, доблестный, дерзкий и необузданно отважный. Он поет в непринужденной манере, просто, энергично и громко. персонажи с «разрисованным (цветным) лицом» цзин jing хуа лянь hualian да хуа-лянь dahualian