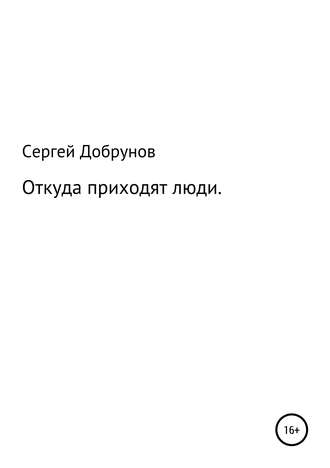
Полная версия
Откуда приходят люди

Откуда приходят люди
Просыпался я в то давнее время рано, будить меня никто не будил, но ещё сквозь
сон я слышал голос моей бабушки, Марии Сергеевны, самого близкого мне тогда и любимого мной человека. В эти столь ранние часы она сидела с мамой на кухне и рассказывала ей что-нибудь из своей жизни.
Она уже много лет жила одна и поэтому, когда мы приезжали к ней, просто хотела поговорить. Старики живут прошлым, вот и она вспоминала нелегкую свою жизнь. И я, ожидая чего-то интересного и приятного от этих рассказов, укладывался поудобнее тихо слушая и испытывая чувство полного счастья и спокойствия, какое бывает только в детстве и какого уже больше никогда не будет.
Я был единственный мужчина в доме, семи лет от роду, поэтому спал один в гостиной на старом диване. Диван этот, как и вся мебель, пришел вместе с бабушкой из прошлого и был совсем не таким, какие появились уже тогда. Узкий и не длинный, без спинки, обитый когда-то кожей, теперь потрескавшейся по углам, он, скорее, предназначался, чтобы сидеть на нем. С одной стороны у него располагалась пологая подушка, плавно поднимающаяся с сиденья, а с боку этой подушки, где складки кожи веером сходились к центру, помещалась медная голова льва с открытой пастью и острыми зубами. Вот этот диван и понравился мне своей необычной формой и особенно, львиной мордой. Напротив него, между окнами, на старинном комоде среди других вещей стояла фотография в рассохшейся деревянной рамке, где на краю этого самого дивана, видно еще совсем нового, сидел, закинув ногу на ногу и держа в руке горящую папиросу, незнакомый мне мужчина в черном костюме с галстуком, а рядом с ним, положив ему руку на плечо, стояла молодая женщина с очень знакомыми чертами лица, в длинном белом платье и высоких черных ботинках на шнурках. Внизу стояла дата – 1924 год.
В то летнее утро шел дождь, я немного проспал и чуть не опоздал к началу рассказа, поэтому, встрепенувшись, стал внимательно слушать. Речь бабушки сливалась с ударами капель о подоконник, в доме было тепло и уютно…
–
Ты знаешь, душа моя, сегодня пятьдесят лет одному весьма значительному и трагическому событию. Эта было так давно, словно в другой жизни… и если бы этого не произошло, то и тебя, и детей твоих может быть и не было бы на свете. Все могло быть иначе. И, не в обиду тебе будь сказано, всю жизнь жалею о том, что так вышло…
Произошло это летом тринадцатого года. Отец мой был управляющим на шахте, жили мы вполне хорошо, обеспеченно, и, когда я окончила гимназию, он отправил нас с мамой отдохнуть в Одессу. Были, по-моему, еще и чисто деловые цели поездки, которыми должна была заняться мама. Отправились мы в конце июля, погода стояла жаркая, солнце нещадно палило землю, будто подготавливая ее и людей к предстоящим испытаниям. Мы ехали поездом с пересадками, но по тем временам с большим комфортом. Я была в том возрасте, когда считалось нужным выходить замуж. Мама все устраивала вокруг меня надлежащим образом. Внешности она была заметной, с тяжелой фигурой, характером волевая, даже я ее побаивалась, а уж проводники в поездах и на вокзалах признавали в ней, как минимум, генеральскую жену и обращались с ней подобострастно и уважительно. Дорога доставляла мне немалое удовольствие, потому как я впервые покинула родные места.
Я смотрела на все удивленно и выглядела, наверное, немного глупо.
Что такое Одесса в тринадцатом году? Правда, какая она сейчас, я не знаю (больше там не была), но тогда этот город очаровал меня. Отлично помню тот дом в Лузановке, который нам сдали быстро благодаря маминым стараниям и неисчерпаемой ее энергии. Мы сняли две комнаты на первом этаже в доме местного врача. Окна наши выходили в небольшой дворик, где росло много роз самых разных цветов. И запах этих роз наполнял наши комнаты и саму мою душу счастьем и ожиданием чего-то значительного и такого важного в моей жизни, что сама Одесса и море, видневшееся вдали за этим двориком, казались мне прелюдией к этому большому счастью – впереди была вся жизнь.
Я готова была целыми днями гулять по Дерибасовской. Особенно мне нравилась тенистая Пушкинская, а потом мне сразу хотелось идти к морю, бежать вниз по лестнице и подниматься назад и махать рукой каменному Решилье… Жара нисколько меня не мучила, а вот мама… ей, конечно, приходилось туго, она то и дело садилась отдыхать где-нибудь в тени. Я не могла усидеть, все хотелось увидеть:
– Что там за углом, мама, пойдемте посмотрим, там и отдохнете, – говорила я ей каждый раз, когда она намеревалась присесть.
– Хорошо, душа моя, пойдем, только не спеши так.
Она прикрывалась зонтиком, обмахивалась веером и несла свое тяжелое тело туда, куда меня влекло. Раньше в Одессе она тоже никогда не была, и видно было, что ей самой все интересно. А когда мы первый раз сели в трамвай, то упоение движением и звонками вызвало у меня дикий восторг, я чуть ли не кричала от удовольствия.
После таких прогулок мама на следующий день никуда ехать не хотела, и мы проводили его у моря. Пляж, что располагался ближе всего к дому, вовсе не был местом специально приспособленным для купания. Это был чистый и ровный берег, усыпанный галькой пополам с песком. Маленький ресторанчик одиноко стоял в одном его краю. Купались здесь и снимали квартиру в основном люди средней руки, поэтому народа на пляже было немного.
Хозяева наши оказались очень милыми людьми: Николай Иванович – врач, уже немолодой мужчина, седоволосый, с аккуратно стриженной бородой, степенный и рассудительный человек. При каждой встрече он почтительно склонял голову. Одетый всегда очень аккуратно, он вызывал во мне большую симпатию и отчасти чем-то напоминал папу. Жену его звали Наталья Александровна. Она, наоборот, была энергичной и беспокойной женщиной, худенькой и небольшого роста. Не работала, весь день свой занималась домом и цветами.
Поначалу мы собирались все вместе за столом.
Начало всей той драме получилось во время нашего с мамой посещения театра, хотя я тогда и не придала этому особого значения. Уже, когда мы поднимались по ступенькам огромного его крыльца, было такое чувство, что я прикасаюсь к одному из значительнейших творений человечества, вхожу в удивительный храм искусства, и оперного, и архитектурного. Внутреннее убранство этого храма поразило меня своей красотой и изяществом, и чувство собственного ничтожества перед этим творением рук человеческих овладело мною. Однако мы вошли туда, и никто нам ничего плохого не сделал. После того как швейцар проводил нас к проходу в партер, вежливо улыбнувшись и склонив голову на прощание, я осознала вдруг, что весь этот удивительный мир принадлежит и мне, что я такой же человек, как и все, собравшиеся здесь люди.
Наши места были в центре партера, и нужно было пройти между рядами, чтобы добраться до наших кресел. В зале стоял легкий гул от сотен голосов усаживающихся зрителей. Большие люстры подчеркивали величину зала, обивка кресел создавала уют. Когда мы подходили к своим местам, то, пропуская нас, поднялись уже сидевших там двое военных. Один был совсем молодым, а второй, лет тридцати, слегка поклонившись нам, представился: "Ротмистр Никитин". Надо сказать, что я плохо воспринимала происходящее на сцене, потому что этот Никитин больше смотрел на меня и отвлекал постоянно объяснениями происходящего. А во время антракта пригласил нас в буфет и, когда мы поднимались по лестнице, взял меня под руку. Я боялась даже взглянуть на него, все ища защиты у мамы, но она не обращала, казалось, на это внимания, и взгляд ее говорил, что так и должно быть. Когда мы сели за столик, я, наконец, решилась разглядеть моего спутника. Он был некрасив: как будто маслом намазанные волосы посыпаны были перхотью, маленькие хитрые глаза все время изучали меня, а не задерживались долго на одном месте, китель лоснился на шее, а на правой руке был большой золотой перстень. Он явно не гармонировал с окружающей нас красотой, и каждый взгляд его словно иголкой колол меня. Молодой спутник его куда-то исчез, но он сам распоряжался словно хозяин всего театра.
–
Могу я узнать ваше имя? – спросил он еще раз, оценив меня всю, как интересную и красивую вещь.
–
Мария Сергеевна, – ответила за меня мама, – а куда же ваш друг подевался? – она тоже уже рассмотрела его и, стараясь уберечь меня от этого неприличного изучения, отвлекала его.
– О, молодежь! Он так стесняется дам, что, наверное, остался в кресле или курит где-нибудь. Мария Сергеевна, – он опять повернулся ко мне, – как спектакль? Как Стешкин, поющий Отелло? Он мой большой товарищ и, должен заметить, должник. Такой знаете бесшабашный талант, голосина! А вот в жизни мот, абсолютно не приспособлен.
Я решила ничего не бояться и охладить его наглость, поэтому заявила с некоторой неприязнью:
– Я, знаете, в театре впервые в жизни и с певцами незнакома, но, думаю, что слова товарищ и должник как-то неуместны при оценке таланта. Вы дружите с ним из-за того, что он известен или он просто нравится вам как человек? Кстати, а как ваше имя, или вы просто ротмистр Никитин? – я попыталась оценить его таким же взглядом, каким он оценивал меня минутой раньше.
– А вы крепкий орешек, Маша, – сразу изменившись в лице, ответил он, сделав мягкую приветливую улыбку. – Зовут меня Иннокентием Петровичем, я ротмистр артиллерийского полка. Давайте не будем ссориться. Вы, я вижу, недавно в Одессе, и я могу составить вам компанию на прогулках и увеселениях.
Но ответить мне не пришлось, зазвенел звонок, и мы поднялись из-за стола.
Я демонстративно взяла под руку маму, а Никитин шел просто рядом со мной и уже заискивающе стал рассказывать о других актерах и о его большой дружбе с ними. И тут я почувствовала, что от него пахнет спиртным, как от простых наших рабочих на шахте. От этого он стал мне еще неприятнее, и я прижалась ближе к маме. До конца спектакля он уже не отвлекал меня и, проводив нас до извозчика, извинительно сказал, что ему очень приятно было познакомиться и что он надеется на дальнейшие встречи и всегда готов составить нам компанию.
–
Ну, душа моя, ты молодец, так отпела этого хлыща, что даже я слов не нахожу. Смотри только не перестарайся. Ты ведешь себя так, словно он тебя силой
под венец тянет. То ты стесняешься и боишься всего, то вдруг накидываешься на человека. Неуравновешенная ты какая-то. Но вообще я довольна. Ты можешь постоять за себя. Я наблюдала за тобой со стороны и слова вставить не могла, – мама всю дорогу домой говорила то ли со мной, то ли так высказывала вслух свои мысли.
Но после того посещения театра во мне вдруг наступила какая-то пустота и безразличие. О Никитине я больше не думала, но осталось непонятное чувство досады, которое постоянно томило меня. Весь этот большой мир стал вдруг чужим. Я наотрез отказывалась куда-нибудь выходить не только потому, что не хотела встретиться с Никитиным, но и потому, что просто стала скучать по дому, по отцу, по своей комнате, по нашим простым и очень знакомым людям. А здесь все стало мне чужим, даже запах роз был неприятен и действовал удручающе. Я все больше лежала на диване с книгой и не столько читала, как скучала просто и, наверное, жалела себя.
–
Послушай, душа
моя, ведь нельзя так хандрить, так можно и заболеть ненароком, – говорила мне мама, присев на край дивана рядом со мной, – я ж ведь с тобой и никому тебя в обиду не
дам. Я
всю жизнь стараюсь
воспитать
в тебе характер, чувство
собственного достоинства
и
превосходства
над многими другими людьми. Ты теперь в том возрасте, когда нужно четко определить свое место
в
жизни. Замуж, допустим, выдам
тебя я, я
найду
тебе
мужа, вот
не понравился, я
вижу, тебе этот Никитин и
ты
уже весь мир невзлюбила.
А
первое впечатление, как правило,
обманчивое, и, прошу
тебя, если мы
с
ним
встретимся
еще раз, не будь букой, постарайся заставить его больше раскрыться, не бравировать перед тобой; будь с нам мягче, будь женственней. Пойми, мужчины в возрасте Никитина проявляют интерес к женщине такой,
как ты, видя в ней, в первую очередь, будущую жену, и женитьба для них – это не только приобретение дорогой вещи. Жена должна стать для него вторым «я», а может быть, и первым, и заставить себя быть такой по отношению к будущему мужу нужно еще до того, как ты выйдешь замуж. Мужчина должен с первой встречи чувствовать твою внутреннюю силу, твой дух
и
любить в тебе не только хорошенькую фигуру и приятное личико, но и твой характер, твои поступки, твое отношение к жизни, к нему. Это главное, что заставляет мужчин сделать свой выбор, – закончила она и, глубоко вздохнув, посмотрела на меня.
– Да? Да он только как вещь меня и рассматривал, только и хвастался своей близостью к актерам. Наверное, он богатый паршивец, этот твой Никитин. Я… я не хочу говорить больше о нем, – расстроившись совсем, я отвернулась к стенке и закрыла глаза.
–
Интересное у тебя восприятие всего этого. Ну что же лежи и думай. Голова на то и дана, чтобы думать. Но я не хочу, чтобы первое разочарование испортило тебя совсем. Надеюсь, этого не случится.
Больше она меня не трогала, только смотрела на меня с сожалением и, видно, давала мне переварить все самой. Она сидела на веранде и вязала или беседовала с хозяйкой и ухаживала с нею за цветами. Иногда она уезжала куда-то, как говорила мне, исполнять отцовы поручения по разным шахтным вопросам. А я заставляла себя читать "Войну и мир” и все больше и больше завидовала ее героиням, которые любили таких интересных мужчин. Так прошло несколько дней.
Но вот однажды с утра я заметила какое-то необычное оживление в доме: кухарка все время суетилась в кухне, весь дом мылся, хозяйка распоряжалась повсюду, сама меняла шторы в гостиной, перебирала посуду в шкафу, была возбуждена и многословна. Николая Ивановича, как всегда, с утра не было, а вернувшись, он переоделся в красивый белый костюм и, чтобы скрыть свое такое же возбуждение, сел с газетой на веранде, но читать не мог и вдруг затребовал у жены водки, выпив, стал немного спокойнее, а встретив меня, поцеловал мне руку. Глаза его светились радостью и особым каким-то восторгом.
– Что все это значит? По поводу чего такие приготовления и суета, Николай Иванович? – спросила я, удивленная шумом в этом таком тихом всегда доме.
–
Как? Разве вы ничего не знаете? – удивленно ответил он, все еще держа
мою руку. – Алексей приезжает. Понимаете, сын наш окончил курс горного
инженера в Петрограде и возвращается домой. Мы его два года не видели,
к четырем едем встречать его на вокзал, к Питерскому поезду.
А мной вдруг овладело непонятное чувство то ли стеснения, то ли страха. Как? Быть в одном доме с молодым человеком, хозяйским сыном? Это было так неожиданно. Признаться, я и не думала раньше, что у таких людей, как Николай Иванович и Наталья Александровна, должны быть дети, и потом этот двухэтажный дом… ведь можно было догадаться, что комнаты наверху вовсе не нужны двум людям… Я расхаживала по своей комнате и нервничала, как будто надеялась и пыталась что-то изменить. Я понимала, что этой встречи не избежать. Вот уже и хозяева наши уехали, правда, гораздо раньше, чем нужно, но это еще больше взволновало меня. А мама, наоборот, спокойно усадила свое крупное тело в плетеное кресло на веранде и вязала, как ни в чем не бывало, словно хозяева уехали на прогулку.
А чувство беспокойства, даже паники, будто я уже заранее виновата в чем-то, абсолютно не давало мне покоя, я то садилась к столу и брала книгу, то выходила в гостиную и на веранду, то опять возвращалась в наши комнаты и вдруг решила, что встретиться с ним сразу никак нельзя, а мама, казалось, не замечает моего волнения и спокойно вяжет.
–
Пойдемте погуляем, мама, пойдемте к морю, душно как-то, жарко, – обратилась я к ней в надежде, что она опять спасет меня от моих волнении.
–
Наконец-то, душа моя, хорошо, пойдем. Быть в Одессе и просидеть сиднем дома? Да и хозяевам надо дать побыть с сыном хоть первые часы. Пойдем, – ответила она, совсем на замечая моего волнения, отложила вязание и, тяжело встав, пошла собираться.
Мы спустились к морю, зеленому и далекому, так, что невозможно было определить, где оно кончается и где начинается небо. Я вглядывалась вдаль, искала горизонт и терялась, не сумев его отыскать. Дул свежий ветерок оттуда, от этого неясного и таинственного горизонта, и нес в мою душу какую-то тревогу и смятение.
Потом мы сидели на террасе небольшого ресторанчика и пили лимонад, ели мороженое. Особых знакомых у нас здесь не было, но мама уже здоровалась со многими. Дамы приветственно кивали ей, а некоторые мужчины подходили даже целовать руку и снимали шляпы. И вот, я даже не заметила откуда он взялся, перед нами вырос Никитин. Он стал еще худее и выше, все те же маслянистые волосы, чуб, спадающий на лоб, и перхоть… Он склонился к маме, целуя руку, и взглянул на меня. Вид его маленьких быстрых глаз был теперь скорее теряющимся и смущенным. Спросив разрешения, он присел к нам за столик, я решила быть мягкой с ним, не кусаться;
– А, Иннокентий Петрович! Вот уж мир тесен, я, признаться, часто думала о вас, – сказала я так, чтобы неясно было, как я думала, – вы уж простите мне мою резкость во время нашей первой встречи, – спокойно, словно извиняясь, проговорила я и неожиданно для самой себя с сарказмом продолжила: – Надеюсь Отелло вернул вам долги? – тут я увидела, как мама грозно свела брови и обожгла меня своим взглядом.
– Ах, Марья Сергеевна, какие долги, что значат деньги в нашем прекрасном мире? Здесь, возле вас, когда рядом такое прекрасное море, когда само солнце светит только для вас, разве можно думать только о деньгах? Бог с вами. Я так рад, что увидел вас вновь. Признаться, я тоже часто думал о вас, и ваша резкость тогда пришлась мне по душе, я даже благодарен вам, что вы заставили меня по другому взглянуть на многие вещи,– он улыбнулся мягко и слегка застенчиво, показывая свои маленькие и желтые зубы.
– Будет вам опять спорить и философствовать, – мама приятно улыбнулась ему, – мне смолоду нравятся офицеры. Вы здесь на отдыхе или полк ваш стоит здесь? – Нет, я отдыхаю. Знаете, я подумываю оставить службу и заняться устройством жизни. Сколько можно мотаться по свету? Пора уже остепениться и быть умней, – он умолк на минуту. – Вы хотите шампанского, нет, скажите честно, хотите? – он заглянул маме прямо в глаза, а потом повернулся ко мне и опять мне показалось, что он колит меня своим взглядом, еще и еще раз оценивает, как товар в лавке.
–
Официант! Быстро шампанского дамам, – произнес он громко и надменно, так, что официант, сидевший поодаль, подскочил и скрылся за стойкой.
– Вот, шельма, уже спит. Удивляюсь я нашим мужикам. Мы их поим, кормим, работу даем, а они наровят спать даже на работе, – надменно закончил он.
– А по-моему, это они нас поят и кормят, они создают нашу спокойную жизнь, – со злом возразила я.
–
Да, я вижу вы не только философ, но еще и революционер! Браво! Такой вы мне еще больше нравитесь.
Официант подал нам бокалы. Я еще никогда не пробовала шампанского, но как ни старалась, не могла быть теперь мягкой и не могла заставить себя любезно говорить с Никитиным, поэтому я попросила официанта:
–
А мне, пожалуйста, еще лимонада.
– Да, да, принеси сейчас же, если дама требует! – зло сказал Никитин, даже не взглянув на него.
Поклонившись, официант ушел.
–
Вы, я вижу, не любите народ, – начала распаляться я.
–А за что его любить? Что он женщина, что ли? Каждому из нас Господь определил место: кому официантом быть, а кому за столом сидеть, – и оставшись довольным своим высказыванием, он откинулся на спинку стула, стал жадно большими глотками пить шампанское.
–
Но ведь Господь учит нас любить ближнего своего, – вмешалась мама, опять отстраняя меня от препираний с этим человеком.
– Вот именно ближнего – того, с кем ты сидишь за одним столом, – он многозначительно взглянул на меня, – разве Господь садился за стол с неближними своими, разве не он учит нас карать неверных?
– Ну уж извините, разве наш русский человек, пусть и мужик, неверный? Вы заблуждаетесь, Иннокентий Петрович.
–
Дорогие мои, зачем нам сейчас обсуждать вопрос мужиков, – нарочно громко сказал он, когда официант поднес мне мой лимонад, – мужик он и есть мужик, – и тут, видно решив снизойти до мужика, он достал свой большой бумажник и, протянув несколько купюр официанту, сказал: – Ну ка, любезный, одна нога здесь, другая там, принеси дамам цветов, сдачи возьми себе.
Удивленный официант, держа деньги почти на вытянутой руке, посмотрел по сторонам, словно соображая, где же здесь взять цветы, быстро вышел из ресторана.
–
Видите, наш мужик не только глуп: работать в ресторане и не знать, где купить цветов… но еще и жаден – видели вы, как он вцепился в деньги, – самодовольно говорил Никитин, все еще глотая шампанское и глядя в сторону скрывшегося за углом террасы официанта. Поставив пустой бокал на стол, сам себе наполнил его и продолжил: – Будет о мужиках. Мы же за одним столом, мы – ближние, и если не по библейским правилам, то, надеюсь, станем ими по человеческим. Как вам отдыхается, Маша? Я больше не вижу вас в опере, и, признаюсь, это расстраивает меня, я уже иду туда не спектакль слушать, а только увидеть вас, – как-то наигранно и слащаво говорил он.
И я уже собралась ответить какой-нибудь грубостью, но мама опередила меня:
– Последние дни ей нездоровилось, но как-нибудь позже мы съездим еще.
На мое счастье, на террасу вбежал наш официант, неся большой букет роз, такой, что, наверное, и сдачи-то не осталось, и, подойдя, улыбнулся мне мило и протянул цветы. Он был уже не молод, с сединой в висках и множеством морщин на лице, но эта улыбка человека, подающего мне цветы, была искренней, хотя и дарил он мне их от чужого имени. Я улыбнулась ему в ответ.
– Пошел, пошел, – грубо отстранил его Никитин.
Поклонившись ему слегка и без всякой улыбки уже, официант ушел.
Солнце клонилось к горизонту и заглянуло под тент террасы, обдавая нас своими еще горячими лучами.
– Нам пора, – сказала мама, – спасибо, Иннокентий Петрович, за компанию, мы пойдем.
– Бог мой! Куда так рано? Не лишайте меня радости общения с вами.
– Нет все, теперь отдохнуть надо, – мама поднялась резко, давая понять, что возражений быть не может.
Никитин взял меня под руку и помог спуститься по ступенькам с террасы. Но, подойдя к выходу с пляжа, мама повернулась к нему, с выражением непримиримой воли сказала еще раз «спасибо». Дала понять, что дальше провожать нас нет нужды, и, смутившись под ее взглядом, Никитин поклонился, поцеловал мне руку, что, надо сказать, было еще непривычно тогда мне, повернулся и пошел назад в ресторан.
А у меня поднялось настроение. Да, я сделала, как мама хотела. Я была приветлива сначала и заставила его раскрыться, сняла с него ту маску вежливости и порядочности, которую он напялил на себя, подсев к нам за столик. Идти было недалеко, но, подымаясь по улице, мама тяжело дышала и была раскрасневшаяся то ли от выпитого шампанского, то ли от стоявшей еще жары. А, повернув к дому, я вдруг посмотрела на цветы, что подарил мне Никитин и положила их на забор у какого-то дома. Мама, взглянув на меня, ничего не сказала, только недовольно покачала головой.
Возле калитки нашего дома стоял экипаж, а с веранды доносились веселые голоса. Прежняя боязнь и неловкость вновь нахлынули на меня, и, взяв маму под руку, я несмело вошла во двор. За столом сидели хозяин с женой, их сына не было. Николай Иванович встал и предложил нам стулья. Но я, испугавшись еще больше, сказала, что устала после солнца и пойду отдохну, выйду чуть позже.



