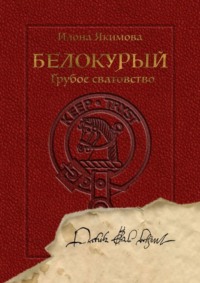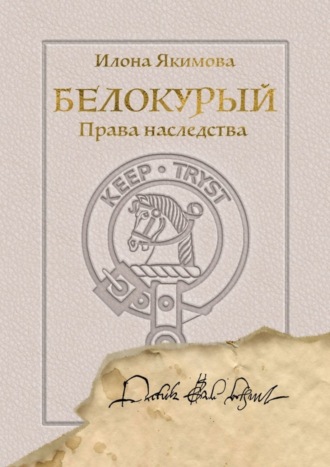
Полная версия
Белокурый. Права наследства
Втроем они стали абсолютно неуправляемы и быстро выбрались из замка в город. Вначале приор был озадачен вопросом, как ему теперь обеспечивать безопасность наследника семьи – не отправлять же следом за Патриком по огородам и садам всю его разросшуюся свиту? – но вскоре понял, что задачей его, как главы города, было именно обеспечить безопасность горожан от Патрика Хепберна, а вовсе не наоборот. Парни швыряли горшки с нечистотами в почтенных горожан, испытывая знаменитую катапульту, забрасывали котов в горящем мешке в открытые окна купеческой гильдии, пугали горожанок, запуская жуков им на платья, вызвали на поединок студентов Сент-Леонардса и умудрились даже побить палками двоих из старшего курса, совали нос в самые злачные места – всего один раз, и, к сожалению, МакГиллан тут же донес приору, а наиболее отвратительная проделка выпала, ни много, ни мало, на Пасхальную неделю, когда оба малолетних графа, притаившись у ограды собора, вылили двум приличным дамам смолы на подол платья, а юркий Хей насыпал на смолу перьев. Джордж Гордон после утверждал, что-де доподлинно слышал, что те злополучные дамы наставляли рога мужьям. Скандал разразился ужасающий. Беда была в том, что и жена купца-гобеленщика, и леди, супруга известного в Сент-Эндрюсе правоведа, будучи чисты, как свежий снег, оказались тем самым перед всем честным народом ославлены шлюхами и более оставаться в городе никак не могли, ибо слухи-то роились независимо от их невиновности. Разъяренные мужья явились к Джону Хепберну требовать правосудия – и мало когда Патрик видел прадеда в таком приступе фамильной ярости. Хепберн сидел под замком неделю наедине со Святым писанием, отхожей бадьей и кувшином воды, Хей неделю, напротив, не мог сидеть, Гордон был отправлен вон из замка на постоянное и поднадзорное проживание в колледж с сокращением содержания, а старый Джон вдобавок был вынужден оплатить переезд обеих семей из Сент-Эндрюса на юг, в Лейт. Однако и после этого троица сорванцов притихла ненадолго – ровно до следующего приступа подагры у старого приора.
Ощущению вольницы способствовало и то, что Джон Хепберн уже не следил за своими подопечными так зорко, как раньше. К осени приор начал дряхлеть. Как сильный мужчина, он не то, чтобы пропустил приход старости, но не сдался ей, перейдя в преклонный возраст в здравом уме и трезвой памяти, однако всему на свете положен свой предел. Слабость тела пришла незаметно и впилась болью в распухающие к дождю суставы. Пытаясь сесть в седло, приор кричал и ругался так, что, казалось, слышно было аж в самой темнице-бутылке. И вдобавок, пользовался при этом Джон Хепберн выражениями, отнюдь не приличными духовному лицу. Сперва грумы еще как-то справлялись с хозяином, соорудив подобье пандуса, по которому приор мог практически зайти на коня, но скоро эта нелепость надоела ему больше всех, и приор вынужден был признать: даже для Хепберна наступает время, когда приходится покинуть седло. Но эта первая уступка стала для приора и последней, ибо хворь тут же съела его целиком. Вскоре он уже только сидел в зале суда, решая дела, не состоянии сам встать со своего трона. По замку его начали носить слуги в кресле, а за пределы цитадели приор больше не выезжал. Особенно тягостно ему становилось по вечерам, когда город и замок погружались в тишину и мрак, за стенами слышен был только мерный голос северного моря, и приора безжалостно обступали тени прошлого.
Зрелище это завораживало Патрика – когда прадед, сидящий в кресле у камина, с ногами, опущенными в бадью горячей воды, дабы унять боль, укутанный в шерстяные пледы, ибо приор сильно мерз, тянул к нему шею, словно линялый ястреб на приманку, и говорил, говорил, говорил. Ходил кадык на дряхлой морщинистой шее. Джон Хепберн блуждал памятью в глубинах времени, повествуя о раннем четырнадцатом веке, когда шотландцы, на свою голову, пленили Адама де Хиббурна, сделав его Хепберном, силача, на скаку повалившего бешеную белую лошадь, и тем спасшего Данбара, графа Марки; говорил об Оттербурнской бойне, когда мертвец Дуглас выиграл битву против живого Перси, а двое Хепбернов, отец и сын, стояли на правом фланге; вспоминал, как выходила замуж за Хепберна наследница де Горлэя, принося в приданое Хейлс… он говорил об этом так, словно сам сейчас находился внутри, плавая в толще веков, предчувствуя, что и ему скоро придется нырнуть в бездну… Он выплевывал оскорбления и обиды, понесенные родом за двести лет, он поименно называл врагов-кровников, он требовал мести, он твердил о родословных деревах и брачных союзах, о походах на Святую землю и заговорах против сюзерена, словно открылась чудовищная шкатулка памяти и из нее, как из худого мешка, просыпалось все, веками накопленное – и золото, и хлам. И он ошибался. Заплутав в прошлом, он переставал узнавать настоящее, воплощенное в образе правнука, и видел в нем кого-то еще… имя было то же – Патрик, но речь шла о другом лице. Он говорил, говорил, говорил… чаще всего приор Джон Хепберн говорил с третьим Босуэллом, как говорил бы с первым, и очень сердился, когда третий начинал отрицать или давал понять, что не понимает… наконец, граф протестовать перестал. Недомолвки, намеки, побуждения к разговору сыпались на него, словно речь на чужом языке, понятная лишь на четверть, никогда даже не наполовину. Жадным, ищущим, горячим взглядом впивался в него прадед, словно ожидал услышать какую-то истину, но молчание разделяло их, и тогда погружающийся в безумие старик опять начинал браниться. Потом бессильно прощал, потом затихал. Приор Джон Хепберн сам собой разрушался, выцветал, таял. Угли гасли в камине, приходил слуга поправить огонь, прадед переставал замечать Патрика, засыпая в кресле с открытыми глазами, и тот потихоньку возвращался к себе, лишь бы больше не видеть старческого, жутко застывшего взгляда. Дела накапливались в канцелярии приората, и мелкие еще решал секретарь приора, но как было поступить с крупными? Так они протянули две недели, а потом милосердная судьба, которую приор утомил своим упрямым долгожительством, послала ему первый удар. Джона Хепберна нашли возле камина упавшим с кресла, не могущим пошевелить ни рукой, ни ногой, лишенным речи. Кое-как причастили и соборовали. Патрик пришел проститься с ним, но толку от этого было мало – приор все равно его не узнал. А второй удар, не менее милосердно, настиг его той же ночью.
Наутро стало известно, что Джон Хепберн, сын Адама, мастера Хейлса, и дядя первого графа Босуэлла, приор Сент-Эндрюса, настоятель собора Святого Андрея, основатель колледжа Сент-Леонардс, отошел в вечность, прожив восемьдесят семь лет праведности, милосердия, просвещенности, злобы и интриг, ушел, дабы присоединиться к темной и противоречивой славе предков. Когда к Патрику пришли спросить распоряжений, он вдруг понял, что внезапно сделался главным в огромном замке, и это было странное и новое чувство. Юный Босуэлл как бы оцепенел от этого известия, хотя, бывало, раньше мечтал остаться совсем без опекунов. Бразды правления мягко подхватил секретарь покойного приора, клирик Джордж Хепберн из Крейгса, подсказывавший графу, что сделать, чтобы хоть на пару дней сохранить видимость власти…
Вечером Патрик пошел навестить своего прадеда в часовне замка. Очень странное зрелище представлял собой старый Джон – такой беспокойный и неугомонный при жизни – втиснутый в деревянный ящик не по размеру. Его обмыли, одели в превосходную шелковую сутану, хотя при жизни Джон довольствовался полотняной – расчесали клочковатую бороду, расправили скрюченные от боли пальцы, вложили в них крест… хотя не менее приличны были бы ему меч и перо. Выглядел он намного пристойней, чем в последние недели своей жизни, но уже издавал слабый запах тления.
Патрик присел на скамеечку, пробуя молиться. Слова сами падали с губ, но почти не имели смысла. Он думал о том, что вот – судьба, опять остался один, и даже без той опоры, какую ему давала грубоватая опека и ехидная привязанность старого Джона. Ему, Патрику Хепберну, было уже двенадцать лет, и из них одиннадцать он не знал ни семьи, ни родни. И все эти годы провел в зачарованном замке, под гнетущим, укрывающим его заклятием титула, денег, власти. Он остался на ночь в часовне и просидел там, закоченев на этой скамеечке, до заутрени, смутно понимая, что именно чего-то подобного ждет челядь приора и его собственная свита тоже – чтобы граф Босуэлл показал свое серьезное отношение к делу. Он даже немного поплакал – в конце концов, ему было только двенадцать, и умер его приемный отец, самый близкий из близких родственников, кого он знал. Конечно, еще мать была… но была – прекрасна и далека, а прадед – вот он, теперь лежит в часовне, завтра станут его отпевать в соборе Святого Андрея, в котором прослужил он столько лет, и не одно поколение горожан также крестил, венчал, отпевал. Патрику было холодно и очень одиноко. И то были последние слезы в его жизни на очень, очень долгий срок.
А еще наутро он узнал, что, согласно завещанию покойного приора, в дополнение к деньгам прадеда, он также приобрел и приорат Сент-Эндрюса.
По дорогам Мидлотиана грохотали копыта самой резвой почтовой лошади из конюшен замка – в Хейлс торопился гонец, и весть его была ожидаемой, но черной.

Замок Хейлс, Ист-Лотиан
Шотландия, Ист-Лотиан, Хейлс, ноябрь 1524
Вдовая графиня Босуэлл собрала на совет сыновей: старшего, Патрика Хепберна, которого, чтобы отличить от отца, первого графа Босуэлла, и племянника, графа третьего, прозвали по названию поместья – Болтон, Уильяма Хепберна, которого по той же причине называли Ролландстоном, и младшего, Джона, епископа Брихина. Надо было решить, не пора ли наследнику рода вернуться под отчий кров.
– Рано, леди-мать, очень рано, – сразу же отрубил Болтон. – У меня Армстронги и Эллиоты на вороту виснут, а вы хотите притащить ко мне мальчишку! Это все равно что сунуть палку в осиное гнездо, закусают насмерть… как вы себе представляете, я стану отлавливать всех, кто пожелает похитить нашего дорогого графа ради выкупа? Или чего похуже?
Хепберн Болтон повадкой походил на деда, графа Хантли, но фигура у него была могучая, хепбернская. Ему недавно перевалило за тридцать, а в Приграничье это солидный возраст, и Болтон, хранитель Хермитейдж-Касла, был уже по локоть замаран в кровной вражде и лютых дрязгах налетчиков любого разбора. Также он был, на время малолетства племянника, шерифом Бервикшира, выполняя свои обязанности, впрочем, чисто номинально. В маноре Болтона, Хепберн-тауэр, его безуспешно ожидали вторая жена и двое слабых, вечно хворающих отпрысков, которым он закономерно предпочитал азартные свары долины Лиддесдейл.
Первенца не заменит в материнском сердце никто, и Адам ушел слишком рано – это Маргарет Хепберн ощущала всякий раз, собирая вместе живых, оставшихся. Двух средних сыновей она видела насквозь, и еще – на полметра под ними сквозь плиты пола, и никогда не упускала возможности это показать.
– Сознайся, тебе это просто нравится, – усмехнулась леди-мать.
– Мне?! – возмутился Болтон, в чьих ухватках определенно было нечто медвежье. – Да я хоть сейчас сдам мальчишке и шерифство, и замок, а сам уеду в Болтон кур кормить!
Но братья заржали над ним самым неизысканным образом.
– Хотя твои слова и не лишены смысла, – закончила свою мысль графиня-мать. – Уильям?
Ролландстона она спросила большей частью для приличия, второй брат слыл в семье молчуном. И не ошиблась.
– Я согласен с Патриком, – отвечал тот. – У меня в Крайтоне тихо, но мы ведь близко к столице.
– А ты что скажешь, Джон?
Джону Хепберну было пятнадцать, когда погиб старший брат, с того же года Джон номинально был назначен главой Брихинской епархии, чему поспособствовал теперь уже бывший зять, граф Ангус. Но де факто ему только в будущем году предстояло заступить на должность, пока же он проводил время то с братом, в Хермитейдже, где превосходно совмещал карательные рейды по долине и молитвы в старинной норманнской часовне, то с матерью, в Хейлсе, где уделял значительно больше времени богословским занятиям.
Из Брихинского епископа получился бы отличный приграничный налетчик, да первый граф Босуэлл решил по-иному – в каждом поколении должен быть хоть один приличный малый, служитель церкви. Джон уродился куда больше Гордон, чем Хепберн, по сравнению с единоутробными, и куда больше Стюарт, чем Гордон – светловолосый и сероглазый. Младшему всего не хватило: роста, силы, веса, громогласности, любой из братьев мог шутя поднять его над головой одной рукою. Но оба-два остерегались злить его попусту, демонстрируя собственное физическое превосходство, поскольку Джон был и ловчее, и много хитрее их обоих, вместе взятых. В драке на мечах он брал изворотливостью, но не силой удара, на латыни говорил, как первейшие отцы церкви, и, единственный из троих, выглядел, как лорд. И не было у него даже в характере ни малейшего сходства с приором Сент-Эндрюса, в честь которого он, собственно, был и окрещен, а выражалась общая кровь только в качестве яда, пропитавшего темные извивы души.
Джон Хепберн – изящное телосложение, медоточивый голос, обаятельнейшие манеры и железная рука в латной перчатке. Впрочем, епископы-воины в семье были не внове, вспомнить хотя бы добрейшего дядюшку Джорджа, епископа Островов, павшего на Флоддене возле Адама… Младший порой пугал саму старую графиню и гибкостью ума, и глубоким цинизмом своих суждений. Вот у такого-то сына она и спросила последнего совета.
– Мальчику двенадцать, если не ошибаюсь, – заговорил тот, то были очень мелодичные и отточенные слова, но звучали они без капли эмоции. – Не знаю, чему учил его дед, но не вижу смысла сейчас забирать его из колледжа. Чему он научится в Долине в компании моих драгоценных братьев?
Гиганты заухмылялись.
– Пьянствовать да баловаться с дочерьми фермеров… – продолжил милорд Джон, но Болтон перебил его:
– А что, самое время! – но мать махнула на него рукой, желая выслушать своего епископа до конца.
– Пусть учится дальше, его место в колледже, а после, я полагаю, при дворе. Пока король юн, Патрику легче будет войти к нему в доверие. Юность – ценное время, особенно когда она разделена с государем.
Возможность отправить Патрика к матери, леди Максвелл, в Западную марку, Маргарет Хепберн не рассматривала даже в мыслях.
– Хорошо, – продолжала графиня. – Кто поедет туда к нему? Патрик?
– Я?! – возмутился Болтон. – Ни за что! Мне и здесь есть, чем заняться.
– Почему-то не сомневалась в твоем ответе… Уилл?
Но братья переглянулись, и оба указали на младшего:
– По-моему, Джонни как раз нечего делать в последнее время! – резюмировал Болтон. – Все равно ж ему ехать в Брихин рано или поздно. А Сент-Эндрюс некоторым образом… эээ…
– По дороге?! Хорошо, – обозлился двадцатисемилетний Брихинский епископ. – Черти б вас взяли совсем!
– И, кстати, леди-мать, – вдруг сообщил Болтон, которого на первый взгляд трудно было заподозрить в дальновидности. – Джону надо было ехать еще позавчера. Потому что ведь епископ Морэй тоже станет ломиться в Сент-Эндрюс к нашему графу…
Уильям при упоминании Морэя выругался, Джон криво усмехнулся, старая графиня возвела глаза горе.
Джон загнал двух коней, но успел в Сент-Эндрюс раньше кузена. Патрика Хепберна Бинстонского, епископа Морэя, следовало опередить любой ценой. Бинстоны, ветвь Хепбернов, отошедшая от семьи век назад, были в целом людьми приличными, но обладали всеми присущими фамилии особенностями характера: гневливостью, отвагой, бурлением страстей и женолюбием. Вот последними двумя качествами епископ Морэй и выделялся даже среди родни. Он перессорился, с кем только мог, в своем приходе. Он пил, как лорд, а ругался, как десять пьяных рейдеров. В нем было весу с гаком двести фунтов, которые он любовно упаковывал в фиолетовый атлас сутаны. В роскошестве нарядов ему не было равных. Он мог позволить себе прийти на службу во хмелю и, покачиваясь, честить прихожан, обещая им муки вечные. Прихожане платили ему взаимной любовью, и самое мягкое из данных ими епископу прозвищ было «жирный пьяница», а самое точное – «повелитель шлюх». О его пяти любовницах и четырнадцати бастардах ходили скандальнейшие рассказы, и, уж безусловно, он не являлся тем опекуном, который был нужен сейчас юному графу.

Ворота замка Сент-Эндрюс, Шотландия
Шотландия, Файф, Сент-Эндрюс, ноябрь 1524
– Доброе утро, граф! Я ваш дядя Джон. Обращаться ко мне можете просто, «ваше преподобие», – и чуть мягче мгновенье спустя. – И не смотри на меня так, мальчик. Я не похож на твоего отца.
Молодой мужчина напротив графа был не намного выше его ростом, превосходно сложен, облачен в простую черную сутану, серые глаза холодны, как воды залива в ноябре, а взгляд пронзителен сверх всякой меры.
Вот так в жизнь юного Босуэлла в один прекрасный день вошел Джон Хепберн Брихин. Он объявился в замке Сент-Эндрюс накануне ночью, безо всякого намека и предупреждения, не считая писем старой графини, которые привез с собой. В иное время Патрик смог бы поклясться, что дядя материализовался из дымохода в саже и серном дыму, настолько внезапно это произошло, но уж священника никак не обвинишь в причастности к колдовству. Хотя были дни в их дальнейшем общении, когда и за это он бы не поручился…
В тот день обед в зале сервировали на двоих, на епископа и юного приора, и пока стюарды выносили блюда, расставляли их на буфетах, пока слуги подавали воду для омовения рук, пока мажордом распоряжался кравчими, и уже потом, над каждым куском, отправленным в рот, над каждым глотком эля – Патрик в продолжение всей трапезы выдерживал испытующий дядин взгляд через стол. Молодой Джон Хепберн изучал племянника и не скрывал этого. Внешним осмотром он остался доволен, но предстояло еще выяснить личные качества наследника рода. Обед прошел почти в полном молчании обеих сторон, но прежде дальнейшего исследования воспитанника Брихин взялся за срочные дела. Запершись на полдня в канцелярии с Джорджем Хепберном Крейгсом, секретарем, он раскидал бумаги по стопкам, визировал на полях «виновен» или «оправдан», сложил кипу, на которой надо было поставить подпись Патрика, назначил очный разбор дел, как было принято при старом Джоне, на ближайшую пятницу. По первости секретарь вздохнул с облегчением – у молодого Джона, похоже, была правильная деловая хватка, хотя она и показалась Крейгсу слегка жестковатой. В тот же день, извещенный о ситуации с молодняком как секретарем, так и МакГилланом, Джон Хепберн написал епископу Сент-Эндрюса Джеймсу Битону, поставив того в известность, что исполняет обязанности опекуна при малолетнем племяннике-приоре, а также Гордону Стретхейвену в Абердиншир, запрашивая позволения обойтись с графом Хантли так, как надлежит для приведения его в чувство. И еще прежде получения ответа на оба письма принял меры: расположился в замке так, словно всегда тут жил, объявил себя всем помощником нынешнего приора и занялся организацией похорон приора предшествующего. Преподаватели Патрика из Сент-Леонардса были званы к нему для отчета и полного описания личных качеств молодого графа, после чего епископ присел к столу и набросал для племянника новый перечень занятий. Джорджу Гордону доступ в замок отныне был запрещен, исключая субботу и воскресенье после мессы. На Хея Брихин просто не обратил – и не обращал – внимания, но Рон был искренне признателен ему и за то, что не выставил вон, осмотрительный Хаулетт на время угнездился среди соколятников, питаясь по кухням и стараясь не попадаться на глаза новой власти. Патрик был приглашен к дяде для разговора после поминальной службы по старому Джону, которую Брихин изящно, хотя и не очень убежденно, отслужил в замковой часовне.
Брихин, с удобством расположившийся в кресле покойного приора и за его столом, заговорил первым:
– Граф, ваш успехи удовлетворительны, но недостаточны для наследника рода и титула. Похвалить вас мне пока не за что, остается надеяться, что вы не дадите повода в вас разочароваться. К последнему случаю замечу, я не являюсь противником телесных наказаний, в отличие от покойного Джона Хепберна, да почиет он с миром.
– Попробуйте, – возразил юный Босуэлл, – и вам придется пожалеть об этом, отвечая хотя бы перед остальными моими опекунами…
Прадед как-то упоминал ему, что с точки зрения гражданского права за графа отвечает совет опекунов: трое дядей и бабка.
– Мальчик мой, – Джон Брихин улыбнулся одними губами, – неужели ты думаешь, что кто-нибудь когда-нибудь узнает о том, что я с тобой сделаю? Мой палач обучен достаточно, чтобы не оставлять на теле следов…
Лицо у Джона Хепберна было правильных черт, почти приятное, если бы оно чаще оживлялось иными эмоциями, кроме опьянения интригой и жажды власти. И что-то в выражении его глаз подсказало Патрику, что Брихин ни в малой мере не шутит. Он сжал зубы и приготовился было дать отпор, когда дядя сказал вполне разумную вещь.
– Я не буду строг с вами, граф, если вы станете вести себя пристойно. Никаких диких выходок, вроде той, с перьями и смолой, и больше внимания уделяйте учебе. Сдается, вам попросту было скучно, но теперь-то я не позволю вам скучать. Часы латыни, греческого и французского увеличиваются вдвое, теологию оставим в прежнем количестве, а вот каллиграфию вам придется подтянуть – пишете вы, мой друг, отвратительно… по истории я стану экзаменовать вас отдельно.
– Это исчадье сатаны, а не дядюшка, – сознался потом Рональду ошеломленный Патрик, – даром, что епископ… если и остальные два его брата таковы, мне конец!
– Да брось ты… это он по первости. Это пройдет! – философски заключил Хей, неумышленно цитируя царя Соломона.
Довольным в замке выглядел только Йан МакГиллан, который, наконец, скинул с себя огромную ответственность выпасать нетерпеливого юнца и теперь попросту по всякому поводу спрашивал решения Джона Брихина. Он был настолько отвратительно доволен пришествием пакостного дядюшки, что даже пару раз схлопотал от раздраженного графа по зубам. После чего, разумеется, Патрика немедленно пожелал видеть епископ, который очень мягко, под угрозой недельного заключения на хлеб и воду, объяснил племяннику, что бить слуг без провинности, а всего лишь от плохого настроения есть очень дурной тон.
Неизвестно, о чем в самом деле размышлял Джон Брихин, рассматривая племянника за совместным обедом, ибо он никого о том не осведомил, однако выводы из увиденного епископ сделал и немедленно приступил к действию. В первый же день в замке он отправился на покой не прежде, чем посетил комнаты графа в Восточной башне, и там личные комнаты наследника семьи подверглись инспекции самой тщательной. Сундуки с платьем и бельем, постель, туалетные принадлежности – везде сунул нос неугомонный епископ. То, что он увидел, вдохновило его не слишком.
– Йан! – дружелюбно, но крайне холодно произнес он по итогу визита. – Где сажа восковой свечи? Где зола розмарина и лоскуты для чистки зубов? Получишь плетей, если не обнаружу вот тут, на столе, к вечерней мессе.
– Благодарение Богу, что вы приехали, ваше преподобие! – с чувством отвечал горец, невзирая на угрозу.
Брихин кинул на него краткий понимающий взгляд:
– Если жеребенок не норовистый, то это не Хепберн. Трижды в день, после каждой еды. И воду с гвоздикой для полоскания рта. Голову вычесывать дважды в день частой стороной гребня. Надеюсь, он хотя бы моется регулярно.
– Растираю сухим льном вечером, это уж как водится, и мыться его милость граф обычно не возражают.
– Ну, – хмыкнул железный Джон, – посмотрим, на что он отважится возразить. Тащи бадью, грей воду, купай паршивца.
Граф был отловлен во дворе на конюшне, предъявлен дяде, который осмотрел его без особого удовольствия и велел сей же час вымыться целиком, включая патлы, и переменить платье. Свежая льняная сорочка, чулки, штаны, простыни для обтирания уже были предусмотрительно вывешены МакГилланом на каминную решетку для согревания.
– Мытье головы ведет к простуде, – простодушно возразил граф.
– Если делать это холодной водой, а потом разгуливать на вольном воздухе, то да. Вылезли из бадьи – пойдите сушиться к камину, вот и все дела. Вы похожи на скотника… или на горца с Островов. Запомните, мой милый, безупречный внешний вид служит не щегольству, а отражению в вас лика Божия – и тем самым совершенства мироустройства. Лорд не может выглядеть и смердеть, как скотник.
– А как горец? – не утерпел Патрик.
– Это уж спросите у Хантли. От лорда ни в каком случае не может пахнуть так, как пахнет от простолюдина. Я пришлю аптекаря, выберите запах себе по душе, хотя лично я остановился бы на аромате какой-нибудь горькой травы. Должно же быть хоть что-то горькое в вашей персоне при подобной сладости облика…