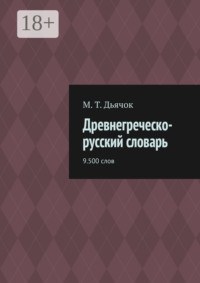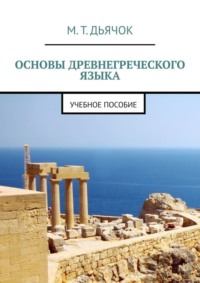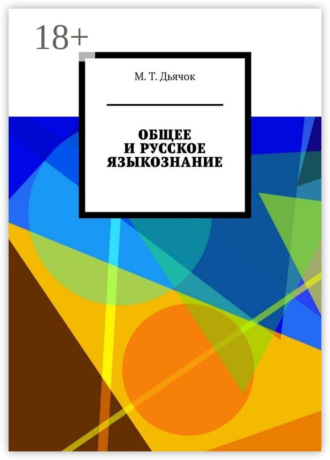
Полная версия
ОБЩЕЕ И РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Схематически тип русской акцентной базы можно представить следующим образом (О – открытый слог, З – закрытый слог, ударный слог выделен жирным шрифтом):
О/З – … – О/З – О
О/З – … – О/З – З
Другим способом изучения акцентной базы может быть наблюдение над речью людей, в недостаточной степени владеющих литературным произношением. В частности, это касается неправильной постановки ударения в географических названиях: Бристóль (прав. Брúстоль), Осáка (прав. Óсака), море Бофóрта (прав. море Бóфорта), Кордóва (прав. Кóрдова), Рабаýл (прав. Рабáул), Пéру (прав. Перý); иноязычных имен собственных: Тиндемáнс (прав. Тúндеманс), Франклúн (прав. Фрáнклин), Рафаэлла Кáра (прав. Карá) и др.
Смещение места ударения в подобных случаях происходит опять же в основном по сформулированным выше правилам: в словах с конечным гласным оно смещается на предпоследний, а в словах с конечным согласным – на последний слог.
4. Типы акцентной базы
Разработка конкретной типологии акцентных баз возможна будет лишь после того, как будет проведено экспериментальное исследование акцентных баз различных языков мира. Пока же мы ограничимся некоторыми общими наблюдениями.
1. Акцентная база всегда должна представлять какое-то системное единство. Это, прежде всего, касается языков с силовым и, по всей видимости, тоническим ударением. Пока неясно, как будет выглядеть акцентная база в тех языках, которые, по мнению исследователей, не знают словесного ударения [7].
2. В языках с силовым ударением акцентная база должна описываться простым набором правил. В зависимости от наличия или отсутствия взаимосвязи между акцентной базой и фонетическим обликом слова, можно выделить два ее типа:
а) Языки с абсолютно фиксированной акцентной базой. К этой группе будут относиться, в частности, языки, имеющие фиксированное ударение: польский, чешский, венгерский. Кроме того, не исключена возможность того, что в эту группу войдут и некоторые языки, имеющие разноместное ударение.
б) Языки с относительно фиксированной акцентной базой. К таким языкам относится, например, русский, акцентная база которого была охарактеризована выше.
3. Пожалуй, наиболее интригующим и наиболее непонятным остается вопрос о том, каковы причины формирования того или иного типа акцентной базы. Можно ли выводить ее правила только из языковой реальности, или же здесь мы имеем дело с глубинными процессами человеческой психологии и особенно этнопсихологии? В решении этого вопроса необходима осторожность, так как тот материал, которым мы располагаем в настоящее время, весьма незначителен.
5. Акцентная база в диахронии
Поскольку акцентная база представляет собой факт не столько фонетики, сколько психолингвистики (не случайно мы определили ее именно как предрасположенность ставить ударение в том или ином слоге), возникает предположение о том, что ее тип должен меняться намного медленнее, чем внешние характеристики ударения. Так, в русском языке определенный выше тип акцентной базы уже существовал по крайней мере в XVII в. Об этом свидетельствуют, в частности, акцентированные записи иноязычных слов (особенно латинских), помещенные в древнерусских словарях XVII в. – азбуковниках, или алфавитах [8]. Постановка ударения в этих словах не имеет ничего общего с нормами традиционной латинской акцентуации, но в то же время практически полностью соответствует правилам русской акцентной базы: кодéкс (лат. códex «кодекс»), спиритýсъ (лат. spíritus «дух»), суперцилиýмъ (лат. supercílium «бровь»), претóръ (лат. praétor «претор»), лякрúма (лат. lácrima «слеза»), куникýли (лат. cunículi «кролики») [9].
На формирование того или иного типа акцентной базы, несомненно, оказывает влияние субстрат. Этим уже давно объясняется, например, изменение места ударения во многих индоевропейских языках (германских, романских, индоарийских). Сложнее оценить степень влияния суперстрата и перстрата. Несомненно, однако, что в некоторых случаях это влияние все же прослеживается. В свое время Р. Якобсон отметил, что в северно-русском диалекте цыганского языка в заимствованных русских словах окситонное ударение всегда переносится на предпоследний слог [10]. Это явление, на наш взгляд, целесообразно объяснять воздействием акцентной базы польского языка, оказавшего большое влияние на формирование диалекта северно-русских цыган.
Наконец, следует отметить тот факт, что исторические изменения фонетического облика слова могут привести к изменению типа акцентной базы. Так, отпадение конечных гласных в старофранцузском языке привело к тотальной окситонии современного французского языка.
6. Заключение
Предварительное рассмотрение акцентной базы приводит к выводу о том, что носители любого языка обладают определенной психологической установкой, в соответствии с которой они стремятся ставить ударение в том или ином слове. Вторым важнейшим фактором акцентуации является ориентация на традиционное произношение. В одних языках (русский) этот фактор действует достаточно активно, в других (польский, чешский) он полностью утратил свою актуальность. Вопрос о соотношении этих двух факторов еще предстоит исследовать. Однако уже сейчас несомненным является одно: акцентная база – реальность, с которой необходимо считаться при синхронном и диахронном описании языков.
Примечания
Статья была написана в соавторстве с В. В. Шаповалом и впервые опубликована в сборнике: Opuscula glottologica professori Cyrillo Timofeiev ab discipulis dedicata. – М., 2002. – С. 16—19.
1. Потебня А. А. Ударение. – Киев, 1973. – С. 21.
2. См., например: Редькин В. А. Акцентология современного русского литературного языка. – М., 1971; Федянина Н. А. Ударение в современном русском языке. – М., 1976; Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. – М., 1977; Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений для работников радио и телевидения. – М., 1984.
3. Ср. Корецкий Л. В. О лексической компетенции грамматического правила // Языкознание в Чехословакии. – М., 1978. – С. 152.
4. Tucker A.N., Mpaaei J.T.O. A Maasai Grammar. – London, 1955.
5. Крупа В. Гавайский язык. – М., 1979. – С. 18.
6. Oliverius J., Veselý R. Egyptská hovorová arabština. – Praha, 1976. – S. 18.
7. См. Касевич В. Б. О типологии просодических систем // Исследования звуковых систем языков Сибири. – Новосибирск, 1984. – С. 187.
8. См.: Дьячок М. Т., Шаповал В. В. Вариативность принципов транслитерации латинских слов в русской традиции начала XVII века // Лексическая и фразеологическая семантика языков народов Сибири. – Новосибирск, 1987. – С. 54—62.
9. Примеры взяты из рукописи ГПНТБ СО РАН, собр. Тихомирова, №25.
10. Якобсон Р. О теории фонологических союзов между языками // Якобсон Р. Избранные работы. – М. 1985. – С. 98.
СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
Русский язык в начале XXI века: основные тенденции развития
Начало нового века и нового тысячелетия застало русский язык врасплох: в такой невыигрышной социолингвистической ситуации он, видимо, не оказывался на протяжении всей своей истории. Тем не менее, являясь гибким и меняющимся организмом, язык так или иначе пытается приспособиться к новой действительности. Целью данного раздела как раз и является анализ тех изменений, которые происходят в русском языке на современном этапе его развития.
Численность носителей русского языка
Количество носителей русского языка в последнее время регулярно сокращается. К сожалению, дать точные данные по динамике этого процесса вряд ли возможно. Вообще, сама оценка числа говорящих на том или ином языке достаточно условна, так как при этом трудно учесть число лиц других национальностей, говорящих на данном языке, а также число активных билингвов. Однако попытаемся это сделать приблизительно, на основе имеющихся материалов и логических допущений.
Численность населения России в настоящее время составляет примерно 145 млн. чел. Среди них лица, причисляющие себя к русским, составляют около 83% [1], или 120 млн. чел. Это данные последней переписи населения, состоявшейся в 1979 г.; с тех пор эта цифра вряд ли существенно изменилась, так как активная эмиграция ряда народов (немцы, евреи) и иммиграция русских из Казахстана и стран Средней Азии была компенсирована более быстрым приростом населения среди кавказских и тюрских народов, а также иммиграцией из азиатских стран (Вьетнам, Китай, государства Закавказья и Средней Азии). Среди оставшихся 25 млн. чел., видимо, лишь небольшая часть не владеет русским языком. В число лиц, говорящих только на своем языке (или знающих русский недостаточно для свободного общения) входит часть представителей крупных народов, в достаточной мере осознающих свою национальную самостоятельность (народы Кавказа, татары, якуты, буряты, тувинцы). По ориентировочным подсчетам, число таких лиц вряд ли может превышать 10 млн. чел. Итак, можно предполагать, что в пределах России на русском языке говорят примерно 135 млн. чел.
На территории бывшего Советского Союза расположены еще четыре государства, в которых русский язык имеет очень сильные позиции: Беларусь, Украина, Молдова и Казахстан (а также непризнанные Приднестровье и Абхазия). Население Беларуси – примерно 10 млн. чел., из них подавляющая часть населения (если не все население) владеет русским языком. Население Украины – примерно 50 млн. чел., и, видимо, не менее, чем для двух третей из этого числа (т.е. примерно 35 млн.) русский язык является основным средством общения. В Молдове (вместе с Приднестровьем) насчитывается 4 млн. чел, не менее половины из них знают русский. Наконец, число русскоязычного населения в Казахстане (население 18 млн. чел) может быть оценено на уровне 8 млн. чел. За пределами этих государств проживает еще не менее 5—10 млн. чел. русскоязычного населения (страны Прибалтики, Средней Азии, Израиль, русские эмигранты в Европе, Америке, Австралии и других странах.
Итого, число носителей русского языка в мире может быть оценено примерно в 195—200 млн. чел. Эта цифра существенно меньше, чем названо в справочных пособиях советского времени: 250 млн. чел. в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» [2] или справочнике «Народы мира» [3].
При этом необходимо подчеркнуть, что число носителей русского языка постоянно сокращается, как вследствие естественных причин, так и потому, что носители русского языка, живущие за границей (особенно эмигранты в экономически развитых странах) постепенно переходят на местные языки. Что касается положения русскоязычного населения в странах бывшего СССР, то благополучно для русского языка ситуация складывается лишь в Беларуси, где он, судя по всему, еще долго (если не насовсем) останется основным языком. Сложнее ситуация на Украине, однако, надо думать, что и там русский язык еще некоторое время будет оставаться живым средством общения.
Таким образом, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности говорящих на русском языке. Надо полагать, что она будет продолжать действовать и в ближайшие годы, в результате чего число носителей русского языка в течение ближайшего десятилетия сократится еще на 10—20 млн. чел.
Литературный язык [4] и просторечие
Основным противопоставлением внутри современного русского языка ныне является противопоставление литературного языка и просторечия. События в жизни России, происходящие в последние годы, еще больше способствуют углублению различий между этими двумя формами языка.
С социолингвистической точки зрения у носителей литературного языка и просторечия имеется свои достаточно четко очерченные группы носителей. Литературный язык – это, прежде всего, средство общения образованных людей, представителей интеллектуальных и творческих профессий, а также отдельных групп государственного аппарата (чиновники, офицеры и т.п.). В основном эта группа людей придерживается западной системы ценности, одна из важнейших среди которых – доверие людей друг к другу, и отвергает криминал.
Просторечие – язык повседневного общения т.н. «простого» человека [5] – людей, не получивших достаточного образования и занятых, как правило, неинтеллектуальным трудом, в современной России во многом связанным с криминалом: охранники, торговцы, шоферы, различного рода порученцы (менеджеры), рабочие, безработные и т.п., а также члены их семей. Характерной чертой этой группы людей является ориентация на свою («российскую», а в нынешних условиях фактически уголовную, лагерную) систему ценностей (деньги надо «добывать» любой ценой; цель оправдывает средство; прав преступник, а не потерпевший (лох); воровство – это проявление практицизма, умения жить и т.п.). Иными словами, это типичная «культура недоверия», причем как по отношению к обществу в целом, так и друг к другу [6].
Особое место среди них занимает весьма многочисленная в нынешней России социальная группа, занятая полулегальными криминальными промыслами: воровством, грабежами, разбоем, попрошайничеством, вымогательством, торговлей наркотиками и оружием, проституцией, сутенерством, мошенничеством, ростовщичеством, сбытом краденого и т. п. [7]. По постоянно мелькающим в прессе данным, число подобных людей и членов их семей может составлять до 30% от всего населения России. Относительно состава этой группы следует подчеркнуть три момента:
Во-первых, современная ситуация в России привела к тому, что быть представителем этой группы считается престижным, особенно среди молодежи из числа «простых» людей. Не вдаваясь в психологические причины такого положения вещей, отметим возможность быстрого добывания денег, а также неизбежно сопровождающий образы «разбойников» романтический ореол.
Во-вторых, многие люди из числа тех, кто занят на «штатной» работе, в действительности обслуживают подобный полулегальный криминал: охранники (которые на самом деле оказываются боевиками военизированных группировок), шоферы (в подобных же группировках или, скажем, развозящие проституток), бизнесмены (помогающие отмывать деньги), юристы («разваливающие» уголовные дела и помогающие преступникам избежать ответственности) и т. п. Для значительного числа людей официальная работа – это всего лишь «крыша», позволяющая беспрепятственно заниматься полукриминальной деятельностью (например, для части преподавателей вузов, основным доходом которых являются взятки со студентов).
В-третьих, широкое распространение полулегального криминала привело к тому, что сократилась сфера деятельности традиционного, полностью нелегального, криминала. В результате – отмечаемое исследователями сокращение сферы функционирования уголовного жаргона, который активно заменяется именно просторечием [8].
На наш взгляд, именно эта социальная группа в настоящее время является тем ядром, внутри которого происходит развитие просторечия, как формы, альтернативной русскому литературному языку.
Весьма показательно, что, оказавшись в иноязычном окружении, многие русские сохраняют привычные им в России сферы деятельности. Отсюда – постоянные разговоры о «русской мафии» и активное неприятие русскоязычного населения во многих странах Америки и Европы.
Сам факт существование внутри русского языка такой формы как просторечие вызывал и продолжает вызывать удивление среди многих лингвистов. З. Кестер-Тома с уважением назвала русское просторечие лингвистическим феноменом, «котому почти нет адекватного явления в других языках» [9]. Действительно, среди обществ, соприкасающихся с европейской культурной зоной, Россия (а также другие русскоязычные или частично русскоязычные государства: Беларусь, отчасти Украина и Молдова, в еще меньшей мере Казахстан и Кыргызстан) представляют собой уникальное явление, поскольку ни в одном из европейских государств общество не разорвано на две социальные группы, ориентирующиеся на различные (а часто и прямо противоположные) системы ценностей. Именно фактом сосуществования двух этих социолингвистических групп, на наш взгляд, можно объяснить своеобразие и неповторимость русского просторечия [10].
Отношения между носителями литературного языка и просторечия весьма непросты. В самой мягкой форме они могут быть названы «напряженными». Для нынешнего этапа развития страны характерна настоящая массированная атака «простых» людей против «интеллигенции», с которой отождествляют всех носителей литературного языка. Устрашенное мощью криминальной вольницы, ослабевшее государство вынуждено делать вид, что понимает и поддерживает «простого» человека. В этой связи показательны резкие нападки на «интеллигентов», которые в последнее время все чаще слышатся из уст людей, лояльных по отношению к властью (ср., например, высказывания политика Г. Павловского, писателя М. Веллера, публициста М. Соколова и др.).
Оценить число носителей литературного языка и просторечия очень сложно. Какие-либо данные по этому поводу отсутствуют. Можно лишь предположить, что носителей просторечия среди современного русскоязычного населения значительно больше, чем носителей литературного языка. С большой долей гипотетичности можно допустить, что в настоящее время две трети всех носителей русского языка владеют исключительно просторечием, одна треть использует в общении только литературный язык или являются активными билингвами (т.е. владеют как литературным языком, так и просторечием) [11].
Можно с большой долей вероятности предположить, что, если не изменятся существующие условия, то доля носителей просторечия будет возрастать, а доля носителей литературного языка сокращаться.
Основные черты современного русского просторечия
Как ни странно это звучит, но в современном русском просторечии сформировалась своеобразная «норма», владение которой позволяет узнать «своего» – носителя просторечия.
Отметим лишь некоторые наиболее характерные черты этой просторечной «нормы». В их числе – активное использование следующих языковых средств.
В фонетике:
1. Повышенная, по сравнению с литературным языком, громкость речи. Носителями просторечия это воспринимается как показатель алертности, энергичности, в то время, как меньшая громкость речи, характерная для стандартного речевого поведения носителей литературного языка, представляется им знаком слабости, безволия, «лоховатости».
2. Своеобразная интонация, которая носителю литературного языка кажется «грубой», однако не является таковой для носителя просторечия. В речевом обиходе носителей просторечия часто встречаются такие типы поведения, как бытовые провокации (подколы, наезды), грубые шутки (приколы), превентивные, часто абсолютно беспричинные, обвинения (особенно в речи женщин, которые пилят своих мужей), сопровождаемые соответствующим интонированием речи. Однако и в остальных случаях интонации носителя просторечия порой значительно отличаются от интонаций носителей литературного языка.
3. Использование оригинальных звукоизобразительных приемов (специфическое хихиканье в очень высокой, визгливой тональности; громкие крики и вопли, заменяющие в определенных ситуациях междометия, и др.).
В то же время необходимо отметить, что звуковой состав общерусского просторечия практически полностью совпадает со звуковым составом литературного языка. В фонетике современного просторечия полностью отсутствуют черты, свойственные традиционным территориальным говорам, например, произношение фрикативного г, оканье или яканье.
В лексике:
1. Маты (обсценная, нецензурная лексики). Маты в просторечии не табуированы, как в литературном языке, и выполняют разнообразные и сложные функции. Не вдаваясь подробно в анализ функций этой группы лексики, отметим особо одну из них – идентифицирующую (или кодовую). Эта та функция, которая позволяет носителям просторечия опознать своих, таких же носителей просторечия, и противопоставить себя носителям литературного языка [12].
Маты являются непременным, хотя и не единственным, компонентом инвективного поведения, весьма распространенного среди носителей просторечия. Особенностью инвективного поведения является повышенная агрессивность речевого акта (при этом сами носители просторечия часто воспринимают ее как шутливую), которая совершенно не свойственна стандартному поведению носителей литературного языка. Вообще, сама система взаимоотношений между носителями просторечия во многом основана на тотальном недоверии и неприязни (скрытой или открытой). Незнакомый собеседник часто воспринимается если не как враг, но по крайней мере как лицо, от которого всегда можно ожидать подвоха. Типичная позиция носителя просторечия по отношению к другому человеку может быть выражена словами: «Тебе меня не обмануть, а я тебя, если захочу, обману» [13].
2. Жаргонизмы и жаргоноиды. По наблюдению В. Б. Быкова, «в настоящее время наблюдается активное использование в устной речи слов, словосочетаний и устойчивых выражений из сферы субстандарта» [14]. Можно привести немало примеров слов, которые еще недавно были принадлежностью жаргона (прежде всего криминального), но в дальнейшем стали употребляться в просторечии (и даже в литературном языке!) как вполне «нормативные»: беспредел, дать по рогам, бабки, бухарь, барыга [15], мочить, бадяжить, козёл (как ругательство) и др. При этом подобные слова могут употребляться в своем первоначальном, жаргонном значении (жаргонизмы) или же приобретать новые значения (жаргоноиды).
3. Лексика, специфическая именно для просторечия, которую нельзя при этом отнести к упомянутым выше группам. Ср. абсолютно нейтральное для просторечия употребление слов: мужик (лит. мужчина), баба (лит. женщина), пахан (лит. отец), тёлка (лит. девушка), пацан (лит. юноша, подросток, мальчик), тачка (лит. автомобиль), бабки (лит. деньги), водила (лит. шофёр), ихний (лит. их) [16]. Число таких слов очень велико, среди них много экспрессивной по происхождению лексики, особенно глаголов: врубаться (лит. понимать), шарахнуть (лит. ударить), вкалывать (лит. работать), ломануться (лит. броситься), притаранить (лит. принести), падать (лит. садиться) и т. п. В большом количестве представлены разнообразные варианты литературной лексики: свеклá, дóговор (мн. ч. договорá), килóметр и др. Интересно, что в просторечии продолжают активно использоваться отдельные слова, уже забываемые в литературном языке, например, некоторые термины родства и свойства – кум, деверь, золовка и др.
4. Эвфемизмы и дисфемизмы. Эвфемизмы употребляются в ситуациях, когда носители просторечия переключаются на «вежливый» (в их понимании) регистр речи. Характерными показателями просторечия являются, например, глаголы кушать (лит. есть), подъехать (лит. приехать), уменьшительные эвфемистические образования типа яички [17], колбаска, мяско и т. п. Дисфемизмы же, напротив, используются в тех случаях, когда носители просторечия стараются говорить «грубо» (опять же в их понимании), особенно часто в ситуациях инвективного поведения.
В словообразовании и грамматике:
1. Специфические именно для просторечия формы имен собственных, образуемые при помощи суффиксов -ок, -ян, – (ю) ха: Ленок (Елена), Санёк, Саня (Александр), Толян (Анатолий), Костян (Константин), Катюха (Екатерина), Лёха (Алексей) и др.; ср. также Серый, Серёга (Сергей), Макс (Максим) [18].
2. Обращение на ты. Обращение на Вы в среде носителей просторечия может быть воспринято как манерность и даже как оскорбление, в крайнем случае, это показатель невладения просторечной «нормой».
3. Специфические речевые конструкции, например, с использованием слов типа: Кто у вас типа за главного? (лит. – Кто ваш начальник, руководитель?); короче: Ну он, короче, подваливает (лит. – Он подходит) и др..