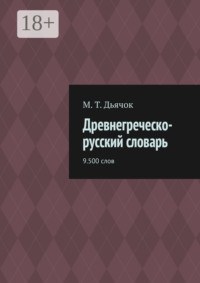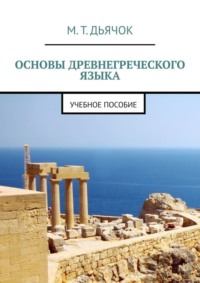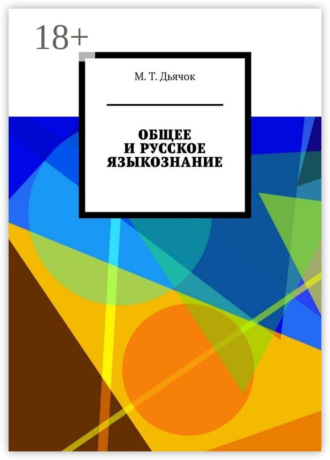
Полная версия
ОБЩЕЕ И РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Интересно отметить, что в просторечии явно выделяются женский и возрастной варианты. Ср., например, женские выражения: Прям!; Чё попало!; Чё к чему?, не используемые обычно в речи мужчин, или лексику, употребляемую исключительно в речи пожилых людей: просют, полуклиника, сымать [19].
Несомненно, что в просторечии выделяются и локальные варианты (имеющие, впрочем, лишь очень опосредованное отношение к старым территориальным говорам, об этом см. ниже). Однако это вполне естественно для огромной территории распространения русского языка.
Наконец, еще одной характерной, хотя и периферийной особенностью просторечия является более активное, чем в литературном языке, функционирование в нем т.н. «детской» речи (в понимании Ч. Фергюсона, т.е. речи, при помощи которой взрослые общаются с детьми [20], в русском языке она носит, в частности, название сюсюканье), ср. такие слова, как вава «больно; рана», масенький «маленький», ав-ав «собака», ути «ах ты», цё «что» и др.
Все эти и многие другие особенности просторечия до сих пор очень слабо изучены, несмотря на то, что об актуальности исследования этой сферы писали многие известные лингвисты [21].
Различия между просторечием и литературным языком, конечно же, не стоит преувеличивать. Несомненно, что в большинстве речевых ситуаций носитель литературного языка поймет носителя просторечия и наоборот. Этому во многом способствуют электронные средства массовой информации (телевидение, радио, интернет), которые, с одной стороны, используют в своей деятельности достаточно стандартный литературный язык (с отдельными просторечными вкраплениями), а, с другой стороны, дают возможность носителям литературного языка знакомиться с образцами просторечия по популярным ныне фильмам и сериалам из жизни представителей криминальных и полукриминальных слоев. Однако часто это знание оказывается пассивным. В то же время многие носители просторечия не владеют литературным языком активно, так же, как и многие носители литературного языка не владеют активно просторечием. В этом отношении две рассматриваемые нами формы речи действительно ведут себя почти как разные языки.
Социальные и территориальные диалекты
В лингвистической литературе можно встретить большое количество различных терминов, употребляемых при назывании одних и тех же разновидностей языка. Отсюда может сложиться впечатление, что таких разновидностей в современном русском языке действительно много. Однако даже поверхностный анализ показывает, что ситуация здесь не столь запутана.
Прежде всего, можно уверенно говорить, что теперь уже полностью исчезли т.н. условные языки – тайные формы речи, использовавшиеся в прошлом торговцами и ремесленниками. Также не употребляются и пограничные пиджины (амурский, кяхтинский, русско-норвежский и др.) существование которых отмечено еще в начале XX века [22].
Не совсем понятно, в какой мере можно говорить сейчас о специальном воровском арго – тайном языке воров, известном под названием «блатная музыка». Оно было засвидетельствовано и неплохо описано в конце XIX – начале XX вв. [23]. Есть основания считать, что сейчас специальное воровское арго, если и употребляется, то только среди преступников, придерживающихся старых воровских традиций, в остальной же массе его функции, судя по всему, перешли к просторечию и близкому к нему криминальному (уголовно-лагерному) жаргону, в меньшей степени ориентированному на сокрытие смысла высказывания.
Достаточно сложно обстоит дело и с территориальными диалектами (говорами). Еще совсем недавно они были любимой сферой приложения сил провинциальных филологов. Сейчас же территориальных диалектов в чистом виде, видимо, больше не существует (исключение, возможно, составляют отдельные островные говоры в отдаленных районах Сибири и Севера, однако и это не очевидно) [24]. С одной стороны, это вызывает некоторое сожаление, так как отдельные формы диалектной речи теперь уже, судя по всему, утеряны безвозвратно. Так, совершенно случайно в середине 1980-х гг. автор этих строк смог собрать интересные (пока еще не опубликованные) материалы по уникальному говору переселенцев из белорусского Полесья на территории Каргатского района Новосибирской области. В настоящее время этот говор уже может считаться мертвым. Однако, с другой стороны, территориальные говоры стали поистине неисчерпаемым источником для пополнения лексики просторечия и жаргонов. Об этом стоит поговорить особо.
Тот факт, что диалектная лексика в большом количестве вошла в состав просторечия и жаргонов, уже давно подмечался многими авторами. Так, еще в 1976 г. О. А. Лаптева писала: « [Просторечие] – это остатки диалекта в речи городских жителей» [25]. Впрочем, признанию тесной взаимосвязи территориальных говоров, с одной стороны, и просторечия и жаргонов, с другой, постоянно мешали идеологические догмы. Вспоминается дискуссия, возникшая в 1995 г. на международной конференции «Аборигены Сибири» (Новосибирск), когда тезис о том, что именно территориальные говоры являются основным источником пополнения жаргонной лексики, был очень болезненно воспринят традиционно настроенными лингвистами. По их мнению, российское «крестьянство» и криминальные слои не имеют ничего общего. Однако можно ли назвать крестьянством тот специфический люмпенизированный слой общества, сложившийся в деревне за годы советской власти, который до сих пор остается главным резервом пополнения криминальных кругов? [26]
Начало исчезновению территориальных говоров было положено коллективизацией и энергичными переселениями людей из одного конца страны в другой во время сталинских репрессий. «Вторая отмена крепостного права» (выдача колхозникам паспортов во время правления Н. Хрущева) значительно способствовала миграции получивших свободу сельских жителей из деревни в города.
На смену старым русским говорам приходят новые территориальные варианты русского языка. Очень показательно, что это варьирование касается в подавляющей массе просторечия. Примеры из литературного языка крайне немногочисленны, да и те порой находятся на грани литературного языка и просторечия, ср. московское песок (лит. сахар, сахарный песок), палатка (лит. киоск), петербургское лестница, парадное (лит. подъезд), кура (лит. курица), латка (лит. миска) [27]. В просторечии же таких примеров намного больше: волгоградское микишка «голова», гондобить «делать кое-как», нахалтай «даром», пермское жарёха «жареные грибы», уросить «капризничать» [28], кировское (вятское) подловка «чердак», новосибирское лайба «автомобиль, машина» и др. Насколько это новое территориальное деление просторечия восходит к старым говорам, не вполне понятно. Несомненно, что какая-то часть «новых» диалектизмов может восходить к «старым» диалектам. Однако на формирование лексики новых территориальных говоров могут влиять и другие факторы, например, то, в каких лагерях (зонах) отбывали срок многие жители этого региона. Этот вопрос еще предстоит изучить. Необходимо также выделение профессиональных, возрастных, половых и других говоров внутри просторечия.
Изучение русского языка в России и за рубежом
Похоже, никто уже не удивляется тому факту, что до сих пор изучение русского языка в России находится на довольно низком уровне. Казалось бы, в эпоху, когда появилась мода на национализм, а правящие люди твердят об «особом российском» пути развития страны, ситуация должна была бы быть совсем иной. На самой деле это не так. Попробуем разобраться, почему.
Во-первых, традиция очень специфического, выборочного изучения русского языка восходит еще к советской эпохе. В 1991 г. Ю. Н. Караулов так охарактеризовал положение дел в советской русистике: «…текущим языком общества русистика, да, и пожалуй, и лингвистика в целом, никогда по-настоящему не занималась. Больше того, обращение к нему как предмету изучения может показаться не вполне научным делом: ведь мы всегда изучали лучшие образцы, мы привыкли ориентироваться на метров языка, на авторитеты, и старались избегать „отрицательного“ языкового материала» [29]. С тех пор, как были написаны эти слова, прошло десять лет, но до сих пор ситуация изменилась незначительно, и по-прежнему анализ языка часто подменяется безобидным анализом стиля «лучших» писателей – почти точным аналогом того, что в литературоведении иронически назвали «мастерствоведением» [30].
Во-вторых, для того, чтобы развивать науку о русском языке, необходимы квалифицированные специалисты. Конечно, в России есть немало талантливых ученых, крупных специалистов в области русистики. Однако в основном это представители старшего поколения, к тому же проживающие, как правило, в Москве и Санкт-Петербурге. Если же взять провинциальные вузы, на кафедрах русского языка которых по идее должна была бы развиваться русистика, то мы обнаружим чрезвычайно плачевную картину. Достаточно взглянуть на сборники трудов российских педвузов, чтобы убедиться в мелочности «проблем», поднимаемых авторами публикуемых там работ по русистике! Конечно, проблемы с хорошими специалистами – это не вина вузов, а их беда, но от этого мало что меняется…
В-третьих, люди, реально влияющие на языковую политику в современной России, подсознательно, видимо, понимают, что их родным языком является не русский литературный язык, а именно просторечие, социально также маркированное как язык полукриминальных слоев общества. Стремление (опять же, видимо, подсознательное) избавиться от нежелательных ассоциаций ведет к тому, что языковой вопрос начинает просто замалчиваться или в лучшем случае подменяться различными неактуальными проблемами (вроде анализа стиля писателей XIX века) [31].
Очень показательным в этой связи является табу, которое негласно накладывается на изучение различных сфер русского языка. Таково, например, отношение к изучению просторечия и жаргонов. Денежных распорядителей, финансирующих исследовательские проекты и напрямую связанных с властью, можно понять – ведь узнаваемые жаргонизмы в речи высокопоставленного лица – это те самые уши, по которым легко можно узнать криминального осла, спрятавшегося под львиной шкурой политика или бизнесмена.
С учетом сказанного можно предположить, что практика «замалчивания» многих проблем в отечественной русистике будет продолжаться, по крайней мере, в течение ближайших лет. Чтобы, однако, немного скрасить эту грустную картину, очертим основные направления, которые, на наш взгляд, представляются особо актуальными в современной науке о русском языке.
1. Изучение русского просторечия. В настоящий момент это, несомненно, важнейшая задача русистики. В перспективе просторечие должно быть описано как отдельный язык. Более частные задачи в этом направлении таковы:
а) составление словаря общерусского просторечия;
б) описание фонетических, морфологических, словообразовательных и синтаксических особенностей просторечия;
в) описание территориальных (а также профессиональных, возрастных, половых) разновидностей просторечия;
г) изучение взаимоотношения просторечия и социальных диалектов (жаргонов);
д) изучение вклада территориальных и социальных диалектов в общерусское просторечие;
е) изучение взаимоотношения просторечия и литературного языка, в т.ч. социолингвистических проблем литературно-просторечного двуязычия.
2. Описание сохранившихся территориальных говоров.
3. Изучение взаимоотношений русского языка (как литературного языка, так и просторечия) и других языков народов бывшего Советского Союза, в частности проблем двуязычия и билингвизма.
4. Выяснение и описание связей между языком и социальным положением (системой ценностей, картиной мира) носителей разновидностей русского языка: литературного языка (стандарта), просторечия, жаргонов и диалектов. Итогом подобной работы могло бы стать составление «социолингвистического портрета» типичного носителя каждой из этих разновидностей языка [32].
Ситуация в зарубежной русистике заметно лучше. Мало того, наиболее глубокие исследования российских авторов, посвященные русскому языку, печатаются именно за границей. В этом отношении наибольший интерес представляют два издания: выходящий в Нидерландах журнал «Russian Linguistics» и особенно немецкий журнал «Russistik / Русистика». Изданий подобного типа не было в Советском Союзе, не появились они и в России. Остается лишь надеяться на то, что ситуация каким-то (пока, правда, непонятно каким) образом изменится к лучшему.
Некоторые выводы
Итак, русский язык переживает сейчас непростые времена. Это находит выражение в четырех основных тенденциях его развития:
1) Сокращение числа носителей русского языка.
2) Ослабление позиций литературного языка и активизация русского просторечия, вызванная спецификой социально-политической ситуации в нынешней России.
3) Падение интереса к русскому языку за пределами России (и некоторых некоторых других стран бывшего СССР).
4) Невысокий уровень современной русистики; замалчивание актуальных проблем и подмена их фиктивными.
В какую сторону пойдет развитие русского языка, во многом зависит от экстралингвистических причин, в частности, от активизировавшегося в последнее время противостояния сторонников западных ценностей (носители литературного языка) и приверженцев «российских» (часто лагерных, уголовных) моральных норм (носители просторечия). Пока перевес, причем существенный, на стороне вторых, несмотря даже на то, что у них есть свои слабые места, прежде всего, низкий уровень образованности. Оттого такими наивными кажутся теперь декларации В. В. Виноградова: «Только в эпоху существования развитых национальных языков… литературный язык как высший нормированный тип общенародного языка постепенно вытесняет диалекты и интердиалекты и становится как в устном, так и в письменном общении выразителем подлинной национальной нормы» [33].
Впрочем, исторический опыт различных народов мира показывает, что принцип автаркии, как бы энергично он ни претворялся в жизнь, в современных условиях не способствует созданию стабильного государства, а, следовательно, и формированию языка, ориентированного лишь на обслуживание внутренних потребностей общества. Несомненно, что русскому языку (в его просторечной разновидности) нельзя и дальше оставаться «официальным» языком криминальных слоев, зоны и армии (которая в ее нынешнем виде мало чем отличается от зоны). Хочется надеяться, что в борьбе с почти вышедшей из-под контроля русской криминальной стихией власти нынешней России проявит достаточно благоразумия для того, чтобы опираться в этой борьбе на испытанные мировые традиции, а не на сомнительные «истинно российские» ценности.
Примечания
Впервые статья была опубликована в журнале: Сибирский лингвистический семинар. – Новосибирск, 2001. – №2. – С. 4—15.
1. Народы мира. Историко-географический справочник. – М., 1988. – С. 544; Брук С. И. Население мира. Этнодемографический справочник. – М., 1981. – С. 206.
2. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 429.
3. Народы мира. – С. 25.
4. Здесь и в дальнейшем в данной статье термин «литературный язык» используется не в значении «язык художественной литературы», а в значении «кодифицированный, стандартный язык; языковой стандарт». Несколько более точным термином было бы «разговорная форма литературного языка», но он слишком громоздок.
5. Этот очень удачный, хотя и не совсем строгий термин, был использован в работе: Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х / Под ред. Ю. Левады. – М., 1993.
6. О «культуре недоверия» см.: Моисеев С. В. Доверие, ценности, общественный договор: исторический опыт Италии и России // Наука. Университет. 2001. Материалы Второй научной конференции. – Новосибирск, 2001. – С. 233—234.
7. «Полулегальными» эти промыслы названы потому, что в условиях их массовой распространенности заниматься ими можно, фактически не опасаясь наказания. Иначе правоохранительным органам пришлось бы «наказать» огромную часть населения.
8. См. об этом: Крысин Л. П. О перспективах социолингвистических исследований в русистике // Русистика. – 1992. – №2. – С. 99; Быков В. Жаргоноиды и жаргонизмы в речи русскоязычного населения // Русистика. – 1994. – №1—2. – С. 85 и сл.
9. Кестер-Тома З. Стандарт, субстандарт, нонстандарт // Русистика. – 1993. – №2. – С. 23. Ср. также характерное высказывание «Просторечие – термин русистики» в статье о просторечии в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» (Бельчиков Ю. А. Просторечие // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 402).
10. В этом отношении было бы интересно сопоставить нынешнюю социолингвистическую ситуацию в России с ситуацией в других государствах, в которых, по-видимому, также сосуществуют группы, ориентированные на западные и «свои» системы ценностей (Иран, Сирия, Пакистан, Колумбия и др.). Но это проблема не столько лингвистики, сколько социологии.
11. См. об этом: Крысин Л. П. Владение разными подсистемами языка как явление диглоссии // Социально-лингвистические исследования. – М., 1976.
12. Ср. Левин Ю. И. Об обсценных выражениях русского языка // Russian Linguistics. – 1990. – №4. – С. 67.
13. С. В. Моисеев приводит пословицы жителей криминализированного юга Италии: «Кто ведет себя честно, плохо кончает», «Проклят тот, кто доверяет другому», «Не давай в долг денег, не дари подарков, не делай добра, ибо это для тебя кончится плохо» (Моисеев С. В. Указ. соч. – С. 234). Похоже?
14. Быков В. Указ. соч. – С. 85.
15. Там же. – С. 86.
16. З. Кёстер-Тома назвала это слово «своеобразным маркером просторечия», см. Кёстер-Тома З. Указ. соч. – С. 22.
17. Ср. остроумное замечание Л. П. Крысина: «Для представителя малокультурной среды слово яйца – прежде всего элемент обсценной лексики и только во вторую очередь – обозначение продукта» (Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русистика. – 1994. – №1—2 – С. 48). Аналогично для носителя просторечия глагол гулять, например, значит, прежде всего, «пить, пьянствовать в компании», а глагол кончать «завершать половой акт». Очевидно, что все дело в своеобразии картины мира у различных слоев общества.
18. Факт принадлежности подобных форм к просторечию, к сожалению, никак не учтен в интересной работе: Супрун А. О прагматической парадигме русского личного имени собственного // Русистика. – 1993. – №2. – С. 43—53.
19. Кёстер-Тома З. Указ. соч. – С. 21.
20. Фергюсон Ч. Автономная детская речь в шести языках // Новое в лингвистике. – Вып. 7. Социолингвистика. – М., 1975. – С. 422—423.
21. См., например, Ларин Б. А. О лингвистическом изучении города // История русского языка и общее языкознание. – М., 1977. – С. 175—189; Ларин Б. А. К лингвистической характеристике города (Несколько предпосылок) // Там же. – С. 189—199.
22. Перехвальская Е. В. Языковые контакты и «прагматический код» // Лингвистические исследования. 1986. Социальное и системное на различных уровнях языка. – М., 1986. – С. 172—176; Neumann G. Zur chinesisch-russischen Behelfsparche von Kjachta // Die Sprache. – T. XII, Heft 2. – 1966. – S. 237—251.
23. Трахтенберг В. Ф. Блатная музыка. – СПб., 1908; Потапов С. М. Словарь жаргона преступников (блатная музыка). – М., 1927; см. также Грачев М. А. Русское дореволюционное арго. – Автореф. канд. дис. – Горький, 1986.
24. Уже в середине 1970-х годов старообрядцы в самых глухих уголках Красноярского края говорили исключительно на общерусском просторечии, почти без диалектных «примесей».
25. Лаптева О. А. Русский разговорный синтаксис. – М., 1976. – С. 80.
26. См. об этом подробнее: Дьячок М. Т. Русское арго и русские говоры: К соотношению лексических систем // Аборигены Сибири: Проблемы изучения исчезающих языков и культур. – Т. 1. – Новосибирск, 1995.
27. Ср. стилистически нейтральное использование этих слов в тексте изданного в Петербурге переводного романа: «двадцать две банки консервированной куры», «на полу стояла овальная латка» (Браун Л. Кот, который любил Брамса / Пер. И. Р. Сендерихиной. – СПб., 2000. – С. 21).
28. Кестер-Тома З. Указ. соч. – С. 22.
29. Караулов Ю. Н. О состоянии русского языка современности. – М., 1991. – С. 4.
30. Гаспаров М. Л. Ю.М. Лотман: Наука и идеология // Гаспаров М. Л. Избранные труды. – Т. 2. – М., 1997. – С. 485.
31. Возьмем для примера книгу: Жуков В. П., Сидоренко М. И., Шкляров В. Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка. – М., 1987. Среди фразеологизмов со значением «заслуживающий высокой оценки» там есть все, что угодно, начиная от явно авторского (и оттого вряд ли заслуживающего помещения в общеязыковой словарь) антик с гвоздикой, заканчивая давно устаревшим разлюли-малина, зато почти нет выражений современного языка. Впрочем, тема столь сильной «любви» советских языковедов к языку писателей XIX – начала XX вв., несомненно, имеет не только политические причины. Так, интересно было бы проследить влияние на тематику лингвистических исследований трудов академика В. В. Виноградова, упорно не замечавшего фактов современного русского языка, зато цитировавшего Кугеля, Колбасина, Лядова, Голубова, Кокорева и других забытых ныне литераторов.
32. См. Николаева Т. М. «Социолингвистический портрет» и методы его описания // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. – Ч. 2. – М., 1991.
33. Виноградов В. В. Литературный язык // Виноградов В. В. Избранные труды. История русского литературного языка. – М., 1978. – С. 292.
Русское просторечие как социолингвистическое явление
Последнее годы оказались весьма продуктивными для понимания сущности русского просторечия – уникального явления в среде носителей русского языка. Несмотря на то, что первые серьезные попытки осмыслить феномен просторечия были предприняты еще в советское время (см. работы Л. И. Баранниковой [1], Е. А. Земской [2] и Д. Н. Шмелева [3]), действительно научный подход к данному явлению стал преобладающим лишь в последнее время. Большой вклад в изучение проблемы просторечия внесли работы российских лингвистов Л. П. Крысина [4], В. Б. Быкова [5], Т. В. Матвеевой [6], В. В. Химика [7] и т.д., а также немецкого исследователя З. Кестер-Томы [8].
То, что научное изучение просторечия началось лишь в последние годы, объясняется не столько собственно лингвистическими, сколько политическими причинами. Конечно же, продолжала играть свою роль и старая филологическая традиция, согласно которой просторечие рассматривалось как явление стилистического характера. В этом отношении показательны однообразные определения просторечия, которые давались в лингвистических работах советского времени. Ср., например, определение в словаре С. И. Ожегова: «Просторечие – слова и грамматические формы массовой городской разговорной речи, используемые в литературном языке как стилистическое средство для придания речи шутливого, пренебрежительного, иронического, грубого и т. п. оттенка» [9]. Аналогичные или подобные определения даются и во многих других словарях, учебниках, справочниках и даже научных работах того времени.
Используясь в таком своеобразном значении, т.е. прежде всего как термин стилистики, просторечие обозначало стилистически сниженную речь. Известная триада «разговорное – просторечное – областное» открыто указывала на то место, которое должна была занимать «просторечная» лексика – между лексикой разговорной (маршрутка, зачётка, разбазаривать и т. п.) и диалектной (азям, шабур и т. п.). Однако кажущаяся простота такой градуальности всегда вызывала немало вопросов.
Исследователи русской некодифицированной речи не раз обращали внимание на относительность подобного противопоставления. Так, рассматривая особенности употребления языковых помет в словарях русского языка, Г. Н. Скляревская и И. Н. Шмелева отмечали: «Пометы (разговорное и просторечное – М.Д.) означают разную степень сниженности в пределах лексики, функционально связанной с некодифицированной формой литературного языка и входящей в словарный состав кодифицированного литературного языка на правах специализировавшегося стилистического средства. Граница между „более“ и „менее“ сниженным неотчетлива и текуча» [10]. И поскольку, действительно, граница между тремя этими группами лексики оказывалась очень нечеткой и зачастую определялась лишь интуитивными методами и личным мнением составителей словарей, то в русистике советских времен получил распространение менее строгий термин – «разговорно-просторечная лексика».