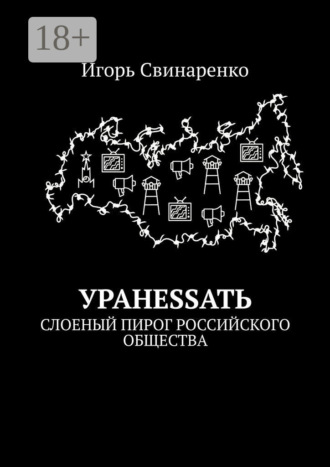
Полная версия
УРАНЕSSАТЬ. Слоеный пирог российского общества
– Расскажите про самый красивый, самый благородный поступок в колонии, свидетелем которого вы были.
– Самый благородный? Я просто теряюсь… Ну, бывает, что человеку освобождаться не в чем, и кто—то ему отдает свою одежду: на, возьми ради Бога и иди… Не часто, но иногда такое бывает бескорыстно.
– А самые неблагородные поступки какие были?
– Я такие назову. Приезжал к нам батюшка из местной церквушки. Так у него здесь украли крест. Нашли потом, но все равно… А второй – такой. Приезжали к нам дети из интерната, с концертом, привезли гостинцев для женщин. Так наши за конфеты чуть не дрались, вырывали друг у друга из рук!
А однажды поймали крысу (крыса – зек, который ворует у своих), она полотенце из сушилки своровала. Надавали ей скопом, как свора. И к телефону – дежурному докладывать, чтоб воровку закрыли (отправили на строгое содержание) … Я говорю: что вы делаете, вы же ненавидите ментов, которые вас посадили, а теперь сами человека сажаете! Зачем сажать? Можно ее заставить дежурить весь месяц или остричь наголо, так иногда делают. Нет – позвонили, сдали, посадили…
– У вас тут, похоже, изменился взгляд на человека…
– Да, да. Я не знала, что человек способен на подлость и предательство из—за своей мелочности. Не думала, что люди бывают настолько ничтожными, вот и все, Да, все мы в той или иной степени корыстолюбивы – но до такой степени! Тут на каждом шагу – предательство…
– Операм закладывают?
– Да тут к ним очередь! У них очень много работы! Я вижу, я же живу в этом! Вот у оперативников висят плакатики: «Запомни сам, скажи другому: дорога к куму – дорога к дому». «Чем с ворами чифир пить – жижицу вонючую, лучше в оперчасть вступить – партию могучую». «Отсутствие взысканий – не ваша заслуга, а наша недоработка». Меня такие вещи смешат. Я сама попадала под этих оперов, на меня доносили – из зависти. Оперативники—мужчины в отношения лезут, в таких грязных вещах копаются – ну, нельзя так! В зоне же однополая любовь, это очень широко распространено, половина женщин – такие. Ссоры начинаются: «А пусть она вернет мне мою рубашку!» От ревности они себе вскрывают вены…
– И что, такая любовь помогает?
– Природа своего требует… Но плохо, что это на зонах запрещено! Если б свободно, они бы не прятались по туалетам, не боялись бы ночами дежурных, не занавешивались бы шторками.
– Тут у вас много убийц. Они действительно страшны? Будут дальше убивать?
– Думаю, будут. Психика—то у них нарушена. Есть такие опустившиеся люди, по которым видно: еще сядут точно, и опять за убийство. Вот одной сосед сказал, что перестал ее уважать, так она схватила нож и убила. Говорит, что она санитар общества. А есть бытовики, они и не страшны на самом деле. Вот у нас сидит бабка, ей за 60. Семь лет получила: убила человека топором. Она была уважаемый человек, все у нее в порядке – работа, семья хорошая… Один парень на воле ее изнасиловал. Она рассказывает: «Вот он меня насилует, а я думаю: что ж ты делаешь, подлюка, щас же я тебе, заразе, всю башку размозжу!» А судья говорит: «А, так ты умышленно, преднамеренно его убила?» Ну, вот как, ну? Сидит бедная бабка, несчастная, подала на помилование, ждет ответа…
Страшно привыкнуть к этому, всосаться навсегда… Предчувствуя свою свободу скорую, я спрашиваю людей, почему они сюда возвращаются. Это страшно: ушел, а после раз – и вернулся. Они не могут себя на воле найти, вот и возвращаются. Лето кантуются там, а к осени садятся, зимовать же надо где—то.
БЕЗ КНИГ, КОНФЕТ И ПРОКЛАДОК
– Что вам тут трудней всего переносить? Чего тут не хватает больше всего?
– Литературы не хватает. Книжки тут старые, советского, периода – про войну, например… Любовные романчики появились: видимо, родители привозят… Тут всё такое пустое! Или прочитанное ранее. Есть, конечно, Блок, Есенин. Хорошо, Люда Альперн привозит книги. Бродского недавно перечитывала, Мандельштама и Кибирова. Прочитаю, потом заново… Тут много читают. А как же еще время убивать? Наркотиками? Нету их тут.
Бедность тут, нищета, из—за этого люди опускаются. У нас же строгий режим, тут такие женщины собрались, на которых давно все махнули рукой. Они уж все растеряли… Зубной пасты нет у большинства. Некоторые ходят в баню с одной мочалкой, без мыла, – где ж его взять? Туалетной бумаги не хватает, вместо нее тряпочки какие—то. Прокладок нет. Что делать? Ну, купишь за 10 сигарет простыню, желающие продать найдутся. Тут все покупается и продается. Нанять кого—то отдежурить за тебя по отряду или на хозработах заменить – 10 сигарет; постирать белье – пачка «Примы»…
А еда тут неплохая, не баланда – повара вкусно готовят. Перловку дают, к ней подливки 40 граммов, вермишелевый суп, щи. А кто больной, на диете – даже котлету дают, а бывает, масло или молоко. Единственно, чего из еды не хватает, так это сладкого. Ну, не будут же тебе в столовой конфеты давать…
Еще угнетает адская работа – швейное производство. Мне надо за смену прошить 175 курток. Смена – 8 часов, но бывают переработки: 10 часов, 12. С промзоны приходишь никакая. Заработаешь 130 рублей – 100 вычитают, 30 оставляют на ларек, но у меня они уходят на телефонные переговоры.
– У вас здесь нет такого чувства, что государство враждебно человеку?
– Государство – это люди… А люди наши не знают, чего хотят. Живут, как живется – и ладно, находят какие—то работенки, но нету у них интереса! Кругом равнодушие. В этом смысле государству действительно до балды – что тут, как тут… Разве только общественные организации зеками интересуются…
ПОЭЗИЯ – ПОЕЗД, КОТОРЫЙ УШЕЛ?
– Да… Вы, Люба, занялись поэзией в то время, когда литература стала так мало значить. Вы—то сами что думаете об этом?
– Да, я попала в поезд, который ушел… Поезд ушел, а тут я… Этот вопрос меня мучил, еще когда я была в тюрьме. Там сидели дамы – шестидесятницы, семидесятницы, они восторгались Евтушенко, Вознесенским.
– За что ж сидели ваши шестидесятницы?
– Ну, за что в московской тюрьме сидят? За мошенничество, за убийства заказные… Те дамы меня с издевкой называли Татьяной Лариной, говорили, что время мое ушло, что все кончено. Мне это так больно было слышать! Ну, и что, что сейчас трудно? Наше время еще придет! Настанет время интеллектуалов! Перестроечное настроение было такое, что и без образования можно делать деньги. Но это уже приелось. Люди уже начали снова стремиться к образованию! А ценители поэзии всегда есть, были и будут. Не отношу себя к тем, кого будут ценить, нет! Я просто пишу и пишу, выливаюсь, я просто нуждаюсь в этом…
Ну, что, я ей пожелал творческих успехов и стал прощаться. Вроде все, но чего—то не хватало. Тут же было не только интервью, но и свидание на зоне. А пришел я на него – вот глупо—то как – без передачи… Тогда я ей отдал прихваченные в дорогу предметы: яблоко, сигару и сборник интервью Бродского. Вещи это нелепые, в зоне лишние, они откровенно и вызывающе вольные, что, может, как раз и хорошо…
СТИХИ НЕБРЕНЧИНОЙ
Давай руку,Вновь встречай разлуку!Море снов,Тут режим таков!Губы – лед,Волюшка – мед.Клетка – засов.Ни минут. Ни часов.Смерть за грех.Гроб – скорлупа ореха.Жизнь – туман,Лесть и обман.Иду вникуда,Туда, где беда.Грешный другМаньяк—убийца – для властей,бандит для всех чужих людей,Ужасный муж плохой жены,товарищ – для своей братвы.Для матери – заботливый сынок,у прессы – одинокий волк.У дочери – ты капитан,у всех красавиц – Дон—Жуан.На положении в преступном миреты стал мишенью в милицейском тире.Был у «хозяина» опасным заключенным,но остаешься на вершине, мною покоренной.***
Да что Вам за дело до изломанных рук?Какое дело до преданного взгляданезаметного?Запечатлею, зарисую, выучу.Прикосновеньем тайным не соприкоснусь.Чашечку голубую уроню —может, встретятся взгляды?Пусть – осуждающие глаза, но все же – пусть!Язык проглочу. Возможно, откину стеснение,и нечленораздельно прошепчу губамизаплетающимися…Тут же в сердце пробьются росточки сомнения.Глоток вина… Проплывут камни, застрявшие в горле..Разрешаю забыть обо мне.Но имя, хоть имя запомните.Торопливые пожатия, судорожное объятие.Я женщина или поэт? Время вытеснитэти вопросы.Я зацелую свои руки, плечи – Вы прикасались к ним.Забудьте – все дымОт признаний, сгоревших в печке.В Ваших стенах теплом мне согреться….Не смотрите на изломанные руки.Холодно?Наступили морозы.Никуда от этого не деться.АБРАМКИН. ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЗЕК СССР
Валерий Абрамкин родился в 1946 году. Русский, из рабочих. После МХТИ ушел в науку: чистил сточные воды в Курчатовском институте. Сидел в 1979—1985 гг. а издание нелегального журнала «Поиски взаимопонимания» (более известен как просто «Поиски»). Самые крамольные тексты Абрамкина – смешно сказать – были про творчество детского автора Хармса.
Сейчас Абрамкин руководит общественным центром содействия реформе уголовного правосудия. Этот центр пытается облегчить участь российских узников. Причем на деньги зарубежных благотворительных фондов: у России на это денег нет и не предвидится. Фонд Абрамкина занимал две комнаты в бывшем ЦК комсомола. Теперь ограничивается одной: дорого.
Абрамкин – худой изможденный интеллигент, семидесятник с классической для своего круга биографией: КСП – институт – самиздат (никто не прошел мимо, кто почитывал, а кто и сам делал) – дворничество – чистая и бескорыстная надежда на Запад. Романтика безнадежного сопротивления режиму, теплые особенные отношения, которые между людьми легко возникают на этой почве… Сколько же было тогда таких романтиков! Да пол—Москвы. Только немногие жили этим всерьез, мало кто сам, собственноручно ксерил крамолу, единицы отваживались отправлять на вольный Запад свои страшные сочинения. Из них тоже мало кто пошел в тюрьмы. Из пошедших немногие вернулись… Так что Валерий Абрамкин – особенный, редкий человек.
За что были эти мучения? За невинный, безобидный журнал, за детского безвредного Хармса Абрамкин потерял огромную порцию жизни, здоровья. Он вернулся оттуда с туберкулезом, ему подсаживали больных с открытой формой и давали одну кружку на всех… Он вернулся. Но героем быть не хочет и, не стыдясь, рассказал о неудавшихся попытках самоубийства – предпринятых там, в лагере. В разных своих интервью говорил, что «выходил из лагеря с ощущением, что они могут сломать любого, с любым сделать, что угодно». Более того: «В 1985—м я вышел на свободу совершенно внутренне сломанным». «Если б у меня вдруг была возможность вернуться в прошлую жизнь, туда, в 70—е, я бы постарался избежать этого». Такая откровенность вообще вызывает страшную симпатию.
Вот любимая Абрамкиным цитата из зековского письма (Бутырка): «Несколько раз мне было так плохо, что я молил Бога о смерти… Я уверен, что настоящий ад не может быть настолько страшным, как этот ад, придуманный людьми. Ведь Господь милосерден в отличие от людей». Ну как, впечатляет?
И это все при том, что где—то же тюрьмы устроены по—людски и на Освенцим не похожи!
– Я посетил 15 стран и нигде не видел системы лагерей, – рассказывает Абрамкин. – Лагерь – это «национальная особенность» нашей советской истории. Чаше всего заключенные размещаются в отдельных блоках, стоит телевизор, есть холл. Во многих странах заключенные сидят по одному. На ночь камеру запирают, утром открывают, человек может выйти, а может и не выходить. Меня поразило пенитенциарное учреждение для подростков во Франции. Стоит дворец, в котором проживает 13 (!) мальчиков, их возраст от 15 до 17 лет. С ними занимаются 20 взрослых. Каждый молодой человек может в любой момент закрыться. Он может встать утром, сварить себе кофе, позавтракать и отправиться на работу или на учебу. Здесь происходит даже не «коррекция» личности, а нормализация, – рассказывает Абрамкин.
Самое страшное, что я видел там, – это малолетки. До таких издевательств, какие в ходу между несовершеннолетними заключенными, никакой Чикатило не додумается. Новое тут вот что: девочки стали очень жестокими. А у мальчиков, наоборот, упал уровень насилия, опущенных стало значительно меньше.
Вот моя самая большая заслуга: в 1980—м в Бутырской тюрьме по моему требованию зекам стали выдавать очень нужные им книги – Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Я писал жалобы, встречался с прокурорами, один из которых и заставил купить начальника тюрьмы 8 экземпляров Кодекса на 3500 заключенных. И еще вот что. В камерах Бутырки раньше рамы были сплошные, осенью их ставили, а по весне вынимали. То есть, несмотря на духоту, зимой камеру проветрить было невозможно. Но совместной голодовкой, которую мы держали с подельниками, мы добились того, что были сделаны открывающиеся рамы. Во всех камерах Бутырки! И теперь это – навсегда…
Сейчас так много подвижников! Есть начальники колоний, которые абсолютно в тех же условиях, что и вся Россия, то есть без денег, совершают буквально подвиги! Вот во Пскове есть такой подвижник Борис Федотов, он был начальником СИЗО, а сейчас – заместитель начальника областного ГУИНа. Так у него там заключенные сытые, лекарства есть, для женщин – горячая вода, в карцере никто полгода не сидел, сотрудники к зекам обращаются исключительно на «вы». Там дубинок вообще нет! Или Юрий Афанасьев, начальник орловской колонии. Там и порядок, и человеческие отношения!
– А у вас нет чувства, что мало у нас таких подвижников?
– А много и не надо. Было же сказано, что и один праведник спасет народ. Святых не может быть много. Но они есть везде! Вот в Ардатове под Нижним Новгородом есть такой отец Михаил, он в 1998 году получил премию Сороса в номинации «Российский подвижник». Он помогает колонии для несовершеннолетних нарушителей, которая в Покровском монастыре.
– На западе считают деньги, поэтому там много социальных программ. Дешевле пристроить бездомного на воле, чем содержать его в тюрьме. А у нас деньги транжирят! Чтоб в Москве создать место в тюрьме на одного человека, нужно 37 тыс. долл., а место в ночлежке – 800 долл.
– Откуда такие цифры?
– А это наша статистка. Я просто взял смету перестройки ЛТП в СИЗО—5, это на «Войковской». Так там одно место в 37 тыс. обошлось. Двухкомнатная квартира столько стоит! А по ночлежке – это цифры по заведению возле платформы «Перерва»… Когда зек возвращается в Москву, нет интереса с ним связываться – проще его спровоцировать на новое преступление и отослать обратно в Мордовию, и пусть его там кормят! А если свалить этого московского зека на Москву, чтоб она ему койко—место в тюрьме строила за 37 тыщ, так Москва задумается. И как—нибудь устроит зека так, чтоб он сам себя кормил.
В 1990 году гуиновцы возмущались: «Как это – сокращать тюремное население?!» Они ж с этого кормились. Они хотели настроить новых тюрем и наживаться на бесплатном труде. Но пошел какой—никакой, а рынок. К 1994 году они разорились на дармовом труде. Насиделись без зарплаты… И у них в голове что—то изменилось.
КАМЕРНЫЕ ИСТОРИИ
Многие рассказы Абрамкина имеют такой зачин:
– Когда я шел по этапу… Однажды на Свердловской (Омской, Алтайской, Новосибирской) пересылке…
И дальше какая—нибудь правдивая зековская история.
– Помню, сидел я в камере смертников… Ну, просто посадили меня к ним. Так я их расспрашивал, как они относятся к смертной казни. Так 80 процентов – за! И так везде, по всей стране, тот же процент, где ни проведи опрос.
– О чем это говорит? О видовой принадлежности, о человеческой природе… Смертники выдали фантастическое предложение: кто приговорил к вышке, тот пусть и приговор приводит в исполнение. Но только после того, как поживет пару недель с осужденным в одной камере. Тогда б многие задумались… Да это никогда не было просто – палача найти. Я знаю, что для казни декабристов палача вызывали из Швеции…
Когда я сидел, один вор мне рассказал такой миф. Что—де воры в законе впервые появились в Древнем Египте, на строительстве пирамид – это был такой рыцарский орден. А филиал этого ордена был в 11 веке создан на Руси. И Степан Разин – не кто иной, как вор в законе. Поднял восстание – такое и на зоне иногда бывает. И вся публика к нему стекалась из уважения к авторитету…
А в чем причина «сучьих» войн в лагерях после войны? Когда воры в законе убивали тех своих коллег, которые были на фронте, соглашались из зоны идти в штрафбаты? Да потому, что был большой риск нарушить понятия: вдруг нечаянно стрельнешь в немецкого вора и таким манером убьешь, по сути, своего братана!
Любимое произведение Горького у воров какое, знаешь? «Челкаш». А у Пушкина? «Братья—разбойники». Это часто встречается в альбомах у зеков… У Лермонтова самое любимое: «Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня», – это же тюремная песня, она считается настоящей воровской. Был у нас один, он исполнял ее на аккордеоне, так его вызывали на все проводы, когда человек выходил на волю. И администрация понимала, что не надо заходить, мешать, не надо кайф ломать человеку. Не надо…
Помню, в Барнауле была у меня связь с девушкой, Галя ее звали. По наказу Нестера, смотрящего тюрьмы, она мне передавала в карцер сахар и куски колбасы, – связь как раз именно в этом заключалась, а не в чем другом… А с воли мне передавали такие сухари самодельные, они с виду как бы обыкновенные, а на самом деле туда грецкие орехи подмешаны и кубики бульонные. Кинешь такой сухарь в кипяток – выходит хороший бульон. Это мне передавали Наташа Дзядко с Леной Гордеевой…
– Помню, сидела в Березниках такая бабка Маня, так у нее стаж 56 лет был тюремный. И вот рассказывала она, что была на Аляске: их везли куда—то, а в шторм баржу оторвало и носило по морю, так и принесло на Аляску. Так американцы их спасли, пригрели, два месяца подержали у себя – а после и отдали. Ну, просто сдали! Люди без понятий! Это в войну еще было. У этой Мани было 18 детей. Причем своих немного, ну, 6—7, а остальные подобраны по лагерям. Я думал, что это миф – но посмотрел ее дело, там все написано про ее детей приемных; они даже носят ее фамилию.
А вот отрывки из разных текстов Абрамкина: «Тюрьма – это элемент культурного пространства, как кладбище, церковь. В идеале тюрьма должна стоять в центре города. Для некоторых людей тюрьма – это необходимый жизненный этап. И кладбище должно быть в центре города, чтобы мы помнили о смерти…»
«В 1991 году я попал в тот самый лагерь, где когда—то сидел. Приехал в качестве руководителя группы экспертов Комитета по правам человека Верховного Совета. Мы выполняли роль, так сказать, медиаторов. В зоне был бунт… Как только зеки выбросили из зоны «оперскую группировку», охрана просто растерялась: они остались без стандартных приемов управления. Какой выход они нашли? В зону стали завозить водку во флягах из-под молока, ею спаивали бунтарей. И если поначалу, после выдворения оперов, лидеры восставших еще поддерживали порядок в зоне, то потом начались пьяные драки, скандалы… Появился повод ввести войска.
В этой ситуации я был как бы переводчиком. Вначале я попросил стороны не предъявлять друг другу претензий, а просто сказать, как они видят завтрашний нормальный день в зоне. Расхождения между требованиями заключенных и тем, что изложила администрация, составили всего три пункта. Зеки требовали наказать ментов, которые воровали. А менты требовали, чтобы наказали тех, кто во время стихийного бунта грубо обошелся с персоналом, кто применял насилие, в результате которого пострадали сотрудники… Решение было такое: вернуться в начальную точку и снять все обиды…
И еще моя надежда на православие. Не на церковь, на православие как хранителя национальной традиции взаимопонимания…»
ЭПИЛОГ
Осталось только сказать, что вся деятельность Общественного центра под руководством Валерия Абрамкина ведется на иностранные деньги. Российские власти на это не дают ни копейки. А свои доллары и франки в виде трактов шлют разные иностранные организаций. Из Швейцарии – ассоциация «Дорога Свободы». Из Америки – Фонд Форда. И из Парижа – фонд помощи верующим в России. И МИД Франции. Впрочем, и в Москве есть один официальный спонсор, государственная организация; правда, называется она «посольство Великобритании»…
– Так что ж, Валерий, – спрашиваю я Абрамкина, – если вдруг по какой—то причине прекратится эта заграничная помощь, то конец вам? Выгонят вас из бывшего комсомольского ЦК, с этих метров, которые вы снимаете на иностранные деньги, и останутся наши зеки без мыла, без уголовных кодексов и без конвертов, чтоб слать свои жалобы?
– Да нет, мы что—нибудь придумаем. Жили же мы как—то даже в 70—е годы! Тогда правозащитники обходились ведь без иностранных вливаний. И не бедствовали: вот меня когда арестовывали, так изъяли на 25 тыщ рублей аппаратуры и оборудования.
Так что не пропадем – выкрутимся!
ГЛАВА 2. ТЮРЕМЩИКИ
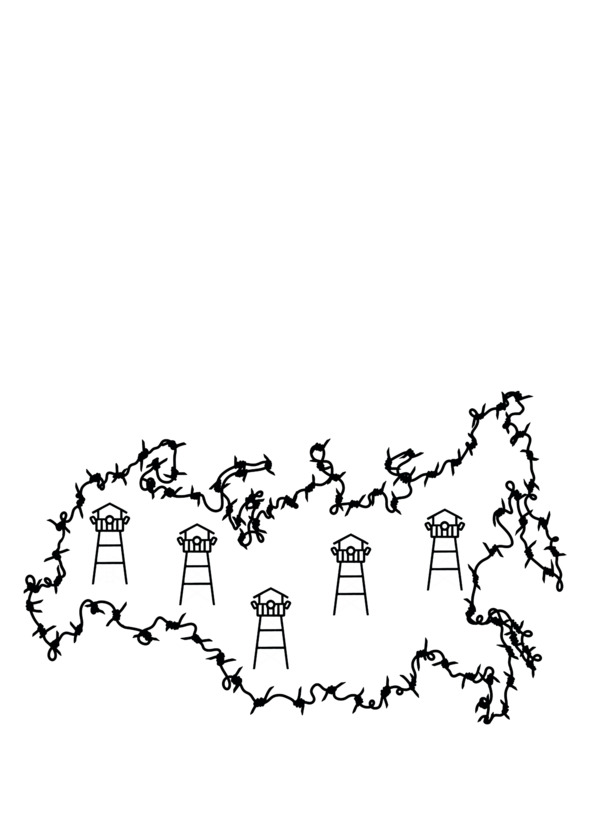
ПОСАДИТЬ МОЖНО ВСЕХ
Начальник ГУИН Орловской области Суровцев – один из самых продвинутых тюремщиков России. Он любезно согласился ответить на множество моих вопросов.
– Так что же происходит? Непосвященные обыватели, которые любят бояться, ожидают, когда же толпы ваших клиентов выйдут на улицы и примутся всех резать. Страх этот особенно силен сейчас, когда идет амнистия. Скажите: кого вы выпускаете и зачем? Вы уверены, что все правильно?
– Да, обыватели боятся амнистии, журналисты их пугают; вам же интересно что—то жареное запустить…
Но я вам скажу такую вещь: в местах лишения свободы сидит слишком много людей! Давайте возьмем 1992 год. На 100 000 населения в России было 250 осужденных. А теперь – 780. С чего вдруг? Что случилось? Некоторые это пытаются оправдать тяжелой социальной и экономической ситуацией, стрессом – одна формация переходит в другую. Однако в 1922 году ситуация была сложней: только что кончилась гражданская война, люди еще сводили счеты друг с другом. Но! Тогда в стране было 80 тысяч осужденных. А сейчас – миллион. Сегодняшняя ситуация сравнима с предвоенной, когда лагеря были наполнены посаженными в пресловутом 37—м, – зеков было тогда два миллиона. Одни сидели ни за что, другие – за «колоски», а сегодня что?
– Да – что? Скажите, вам же изнутри должно быть виднее!
– Ну, действительно в стране тяжелые социально—экономические условия, и это при отсутствии идеи, идеологии, нравственного воспитания. То есть часто людям не на что жить, а во имя чего терпеть – неизвестно!
– Насколько амнистия способна улучшить ситуацию? Когда мы сможем выйти на уровень ну пусть не 1922—го, но хоть 1992 года?
– Амнистия коснется 120 тысяч, из них около 1000 отбывают наказание в нашей области. То есть кому—то срок скостят, и он еще будет досиживать остаток, кто—то выйдет. (Кстати, предыдущая амнистия к 50—летию Победы была сравнима с теперешней: она затронула 94 тыс. осужденных, однако обошлось же без паники). Надо понять простую вещь: разовые амнистии кардинально ситуацию не изменят. Тут все зависит от того, насколько правильную карательную политику выберет государство. Известно, что Егор Строев и другие члены Совета федерации выступили с инициативой – 64 уголовных деяния исключить из УК. У нас иногда применяют лишение свободы в случаях, когда можно обойтись более мягкими мерами.
– А что там они собираются исключить?
– Это только предложения, они еще не приняты – рано это обсуждать.
– Ну ладно. Вот люди выйдут по амнистии. Что с ними будет?
– Обыватель думает: их в одни ворота выпускают, а они в другие возвращаются, украв или убив. Но опыт прошлых лет показывает: у тех, кто вышел по амнистии, рецидив не бывает выше 5—6 процентов! То есть выпустили человека – и он «завязывает», только 6 человек из 100 амнистированных возвращаются к нам. Всего же по стране процент рецидива, когда человек отбывает весь срок наказания и после снова совершает преступление, – 35—40. Я не говорю, что плохо и что хорошо, я просто даю цифры.
Но и тут все—таки надо трезво смотреть на ситуацию. С одной стороны, среди осужденных много таких, кто сел за мешок комбикорма, за кусок колбасы или пару мягких игрушек. А с другой стороны, все—таки больше стало убийств. В нашей женской колонии десятки осужденных совершили по два или три убийства…
РУССКАЯ ТЮРЬМА – САМА ПО СЕБЕ ПЫТКА?
– А насколько это сегодня страшно – быть российским зеком? Что там творится внутри? Может, их там в застенках так мучают, что они только и думают о мести? Пока они на зоне парились, мы тут прохлаждались… Вот говорят, что само по себе пребывание в русской тюрьме – уже пытка, на европейский взгляд.
– В тюрьмах имеет место «перелимит» – это когда мест не хватает и спать приходится по очереди, в три смены. Это ненормально, но вряд ли это можно назвать пыткой. А в колонии такой проблемы нет, чтобы спать в три смены. Там проблемы другие. Осужденные не в полной мере обеспечены питанием, одеждой, коммунально—бытовые условия в нашей системе, может, не соответствуют европейским стандартам.



