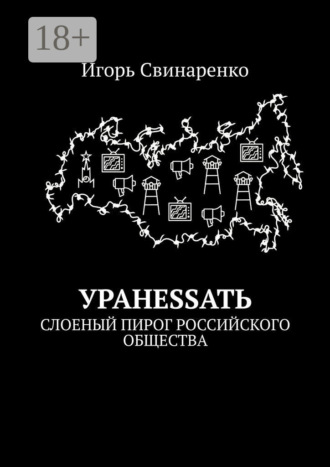
Полная версия
УРАНЕSSАТЬ. Слоеный пирог российского общества
– Публика серьезная сидит у вас? Убийц сколько?
– Человек 60 – это из 434.
– И что, все хладнокровные киллеры?
– Нет, убийства в основном бытовые, на почве употребления спиртных напитков, – капитан не может сказать просто – «по пьянке», он вот какой тяжеловесный термин применяет; видно, они на службе привыкают ко всему казенному, включая казенные фразы. – А некоторые убили просто из—за неприязненных отношений. Бывает, конечно, сведение счетов, но это не характерно, такое редко…
– Вот они у вас тут сидят, и что? Как сами думаете, они после отсидки что, лучше становятся?
– Ну, вот смотрите: в 98—м году было 25 процентов рецидива, то есть каждый четвертый скоро снова садился. А в 99—м – всего 9 процентов рецидивов.
– Это что ж, значит, получается, что вы улучшили работу?
– Ну, да.
– А что, что вы сделали? Конкретно?
– Ну, вот мы наладили контакты с органами занятости и соцзащиты на местах. Пишем им, просим, чтоб помогли наших там устроить, работу им найти.
Неужели ж бывает еще такое? Чтоб кто—то людям просто так помогал? Не для получения прибыли, не в ходе предвыборной кампании?..
– Что ж, по—вашему, жизнь становится лучше? – спрашиваю я все ж таки с недоверием.
– А что? И лучше. Поборов не было в этом году. А то ведь, бывало, воспитанники вещи отнимали у товарищей. Мордобоя уж практически нет, за год ни одного случая не было. Хотя это детский коллектив! В детском, хоть на воле, хоть тут, все—таки есть право сильного… Но ребята тут учатся мыслить правомерными категориями (видно, он хотел сказать «правовыми» – прим. авт.), начинают понимают, что за все сделанное надо нести ответственность…
Вообще обстановка в последние годы лучше стала. Гостей тут теперь предостаточно. Представители православной церкви постоянно тут бывают. Контакт с обществом «Спартак» налажен, оттуда тоже приезжают. Вывозим ребят на мероприятия в Орел: в театр, к примеру.
– И что, не разбегаются?
– Нет. Все—таки мы туда не всех подряд берем, а кто на льготных и улучшенных условиях содержания.
– То есть вы думаете, что публика тут не потерянная?
– Не совсем потерянная. Но это ж не только от нас зависит, но и от того, что в стране творится. Если регион криминальный, как, например, Тверская область, так оттуда к нам больше всего привозят. И почти весь рецидив – оттуда. Там, в области, есть районы, где наркомафия вообще всем заведует. Очень много наркоманов и ВИЧ—инфицированных оттуда приходит. Ярославская область – тоже регион суровый. Там СИЗО черное, оттуда ребята приходят с негативными установками.
– А у вас, стало быть, красная зона?
– По воровским понятиям – да, красная. А если серьезно, то у нас уставная зона с сильным активом.
– Вот вы сказали про зависимость зоны от общей ситуации. Вас, конечно, часто спрашивают: что в стране творится? Интересно, что вы отвечаете? Я – ладно, могу честно ответить, что сам не знаю. А вам ведь положено отвечать четко, уверенным голосом, так? Так что ж вы им говорите?
– Вы что, у меня, получается, спрашиваете?
– Ну, да. Интересно же узнать, как вы тут воспитываете подрастающее поколение.
– На самом деле у них больше вопросов по отбыванию наказания, по амнистии. А жизнь они видят… ну, более приземлённо, и в детали, может, не вникают. Вот они смотрели передачи Доренко, когда у нас там элиты воевали, и ничего не могли понять: почему, кто на кого, и зачем же в таком тоне. Мы разъясняли на уровне трех пальцев, чтоб не забивать им голову и чтоб им было понятно, что вот в верхах там кто—то с кем—то разбирается, – и по—плохому, и по—хорошему. Это, конечно, на ребят плохо действует, когда в Москве вон что творится…
– А самое тяжелое что тут для вас, какая проблема выглядит самой неразрешимой?
– Сироты. Это самый большой вопрос, эта категория – самая безнадежная, самая неуправляемая и самая беззащитная. Хорошо, если остались какие—то связи: дедушка, бабушка. Тогда выходим на них, докладываем райотделу по месту их жительства, просим помочь. Но часто они попадают совсем в другую ситуацию. Денег—то мы им даем только на проезд и на питание в пути. Это все, что может администрация… Куда они попадут, чем будут кормиться, когда эти копейки кончатся?
– Фактически мы их… э—э—э… списываем. Так?
Капитан грустно молчит. Потом продолжает рассказывать:
– Не так—то легко у нас работать. Платят—то сколько? Две с небольшим тысячи – это заму. Остальным и того меньше…
Меньше, к примеру, получает прапорщик Евгений Кузнецов – младший инспектор ДИЗО (дисциплинарного изолятора). Работа у него малоприятная: он вынужден наказывать людей и без того уже обделенных. Наказание состоит в том, что подростков из отряда, который все—таки похож на что—то более или менее вольное – на пионерлагерь или казарму – отправляют в замкнутое пространство, в тюремную камеру. В которой не положено ни книг, ни телевизора, ни курева. И никакой еды из ларька – только обычная баланда.
За что попадают в ДИЗО? Читаю список проступков: «Самовольное оставление отряда, невыполнение требований, отказ от дачи объяснений, уклонение от физкультурных мероприятий, самовольное приготовление пищи в неустановленных местах».
– Последнее – это про шашлык, что ли?
– Да какой шашлык! Это когда чай заваривают в ПТУ самодельными кипятильниками. А такое ж чревато пожарами!
– Вообще же, – признается прапорщик, – много людей сидит несправедливо. Можно б условным сроком обойтись, а ребятам ломают жизнь. Что делать? А почаще надо амнистию проводить.
– А что в зоне самое страшное, по—вашему?
Подумав, прапорщик отвечает:
– Самое страшное – это когда люди недоедают. В марте, когда запасы кончаются, такое бывает…
Прапорщик со мной вел беседу, не торопясь, потому что у него была как раз передышка: в ДИЗО пусто, ни одного наказанного. Все зеки – на воле, на относительной воле: на зоне. Вот колонна марширует на обед строевым зоновским шагом: он совершенно невойсковой, какой—то странный: короткий, дробный, частящий. Как бы медленный тяжелый полубег. Я там всех спрашивал, откуда ж такой удивительный неудобный шаг, но никто не знал ответа. Только потом я догадался: такая походка могла выработаться от тяжелых кандалов, когда только маленькие шажки и возможны.
Нас давно уж не заковывают в кандалы, а каторжная воровская походочка все держится…
УБИЙЦА—ПСИХОЛОГ
Девушка эта лежала в тюремной больнице в Мордовии. Ей лечили щитовидку. Она смотрела на меня своими слегка выпученными, как это бывает при таких болезнях, глазами. Я стоял, она лежала в больничной койке. Мы разговаривали.
– Меня в 18 лет посадили. У меня пособничество убийству. Три человека по делу идут. Это неоправданная месть. Там был скандал, и моя потерпевшая (она моя подруга, мы с ней вместе в Гербалайфе работали) привела своих мужчин, чтоб разобраться. И они мою подельницу избили очень сильно. И из—за того, что та привела заступников, мы хотели ей отомстить, то есть умышленное идет убийство.
– А пособничество – это как?
– То есть я ее привела на место преступления, и способствовала, как организатор.
– Вы думали, что незаметно как—то убьете, так?
– Ну, почему. Конечно, это заметно – убийство человека. Я сама испугалась.
– Чего?
– Что и меня могут убить. Я и убежала.
– А из—за чего вы там поссорились?
– Я с моей потерпевшей – Пудикова у нее фамилия – снимала комнату у моей подельницы. Так вот они что—то поругались, и хозяйка Пудикову решила выселить. И сказала, что ей вещи не отдаст, пока та не заплатит за то, что жила полмесяца. Пудикова говорит: «Хорошо, я сейчас приду». Я как раз прихожу, а там очень много мужчин, таких крепких, и с моей хозяйкой они разбираются. Один мужчина несколько раз меня ударил. А подельник мой говорит: «Зачем вы женщину бьете?» Он меня забрал, мы спустились вниз, я вызываю милицию. Милиция пришла, посмотрела в дверь, что там разборка идет, развернулась и ушла. То есть никакой помощи оказано не было. А было же заявление, я заявление писала! Если мы в милицию обращались, а милиция нам не помогает, значит, мы должны как—то своими силами действовать. И вот видите, как получилось. Вообще у нас в планах было просто ее избить, чтобы она прочувствовала, что так нельзя делать… Но подельник сказал, что он уже должен… Он сначала Пудикову бил. Потом хотел задушить, удавку надел на шею. Я к нему подбегаю, кричу: «Что ж ты делаешь?» А он как дал мне наотмашь, и я убежала. Что я могла сделать? Он ее убил осколком керамической трубы, заостренной, по голове убил. Многоосокольчатый перелом, убийство жестокое очень. А вообще нас судил военный суд. Так как подельник из армии сбежал, дезертировал.
– Это ваш друг?
– Жених.
– А сбежал почему?
– Он ушел из армии в отпуск – и не вернулся. А когда на суде спрашивали, почему он сбежал из армии – он служил в Волгоградской области – он сказал, что его там били, обижали. А сам – женщину убил… У нас судебно—медицинская комиссия была, сказали, что все нормально, что мы были вменяемы в момент совершения преступления.
– Пьяный он, может, был?
– Да, он очень пьяным был.
– Вы сейчас с ним дружите?
– Сначала мы переписывались, потом я решила, что это не нужно. Это даже очень хорошо, что меня посадили, я это поняла. Потому что если бы нас не посадили, я бы вышла за него замуж, и в один прекрасный момент он бы меня мог убить. Все что ни делает Бог – все к лучшему.
– Ну, а тут как живется, на зоне?
– Меня лечит эндокринолог, врач. Как меня посадили, так на нервной почве у меня – щитовидка. Я по собственному желанию приехала из Самары сюда в Мордовию лечиться. Потому что там очень тяжело с лекарствами. И вот я здесь уже 3—й месяц. Мы ходили на концерт на мужскую зону. Я там пела песни, которые сама сочинила, и танец живота танцевала.
– А где ж вы такому танцу научились?
– В Казахстане. Я там родилась и прожила 17 лет почти. После мы переехали в Россию. В 1996—м году я поступила в университет на психолога. То есть на заочном отделении я проучилась один курс, и меня посадили.
– Я смотрю, у вас учебники на тумбочке, то есть вы продолжаете заниматься?
– Да. У меня здесь есть книги по психологии. Когда освобожусь, не знаю, правда, когда, все—таки хочу продолжить учиться.
– Учебники откуда?
– Мама посылает.
– Вы переписываетесь с кем—нибудь?
– Да, с мамой.
– Тяжело тут вообще?
– Да, тяжело, но мне помогают. У мамы хоть не такое материальное положение, что она каждый месяц какие—то посылки может отправлять, но нормально все. Очень хочется амнистию… Я хотела бы, чтоб всем женщинам скинули помаленьку, ну, хоть десятую часть бы скинули. Просто женщинам и детям. Женщины тяжелей тюрьму переносят. Хоть скинули бы сколько—нибудь.
ИЗМАЙЛОВСКИЙ МАНЬЯК
О нем много писали в 1993 году, когда поймали: это тот самый, что в Измайловском парке Москвы убил 18 человек. Он себя считал санитаром общества и принципиально убивал проституток и гомосексуалистов. Сейчас отбывает пожизненное заключение в Мордовии.
– Сергей, вы ведь в Москве жили?
– В Балашихе жил. А в Москве я работал.
– А где?
– В таксопарке №8. На Авиамоторной.
– Электромонтером, кажется?
– Слесарем.
– И Измайловский парк вы с той, с южной стороны… э—э—э… обрабатывали?
– Да.
– И сколько у вас там – кажется, 18 человек?
– 18.
– Это была идейная борьба?
Молчит.
– Вы чувствовали тогда, что занимаетесь полезным делом?
– Я сейчас не могу вам ничего объяснить.
– Вам теперь это уже не так понятно?
– Не могу объяснить.
– У вас есть какие—то сожаления о проделанном, вы уже не уверены, что все было сделано правильно?
– Да.
– То есть вы теперь уже такого бы не сделали.
– Да.
– А что бы вы делали тогда?
– Не знаю.
– То есть вы, может, работали б спокойно и все?
– Работал бы.
– И чем бы вы занимались в свободное от работы время?
– Сейчас я затрудняюсь ответить.
– Что изменилось за восемь лет, проведенных в тюрьме? Характер, настроение, взгляды на жизнь? Здоровье?
– Больше взгляд на жизнь. Стал спокойный.
– Это от возраста так?
– Не только.
– От условий, от того, что вы видите вокруг – или от чего?
– Это трудно объяснить.
– Насколько тяжело здесь вам находиться?
– Не тяжелее, чем любому.
– Как у вас сейчас с поведением, с нарушениями?
– Нормально.
– То есть вы ожидаете досрочного выхода?
– Ожидать – не ожидаю. А время идет.
– Вы тут чем занимаетесь? На работу вас не водят, времени же свободного много…
– Чтение.
– Что читаете?
– Литературу.
– Какую?
– Классику. Пушкина недавно прочел.
– А что именно?
– Один из томов.
– Поэзия, проза?
Молчит.
– А из духовного что—нибудь читаете?
– Священное писание.
– Еще чем занимаетесь?
– Радио слушаю, интересуюсь всем, что происходит.
– Радио какое?
– У нас один канал.
– А телевизор?
– Телевизор – нет.
– Газеты?
– Газеты – нет.
– Вы получаете посылки, письма.
– Да.
– У вас родня осталась на воле? Что пишут?
– Пишут про дом.
– Все живы—здоровы?
– Слава Богу, живы—здоровы.
– О чем я не спросил вас, о чем бы следовало спросить?
– Не знаю, о чем.
– Я к тому, что слабо это все себе представляю, вашу жизнь. Но о чем вы бы сами спросили человека, находящегося в вашем положении?
– Ни о чем бы не спрашивал.
– Вам бы хотелось что—то сказать самому.
– Ничего.
ПОЭТЕССА. МУЗА ПОПАЛА В ЖЕНСКУЮ ЗОНУ
Вот в женской колонии строгого режима отбывает срок поэт Любовь Небренчина. Сидит она, конечно, не за стихи, но за разбой. Разбой – это когда к горлу приставляют нож и серьезно говорят: «А ну, отдавай деньги, не то зарежу».
«Люба – красавица, у нее вдохновенное и даже нездешнее лицо. Она пишет хорошие стихи,» – в таких терминах выражается Людмила Альперн, верная поклонница поэтессы и первый литературный критик тюремного дарования. Разбор чужих стихов – вообще не главное занятие Людмилы. По профессии она – правозащитница, помогает зекам. И вот однажды в кипе почты, которая идет из унылых зон России, она наткнулась на письмо с рифмованными строчками. Там была еще экзотическая идея – издать альманах тюремной поэзии; зеки, они же любят самовыражаться, а обстановка неволи располагает к отстраненному от суеты философствованию.
Ну, завязалась переписка, в результате которой жизнь Любы заметно изменилась. Во—первых, правозащитники вникли в уголовное дело поэтессы и помогли ей скостить срок аж на полтора года. Сказочная удача! – это ж все равно что уйти на дембель сразу после учебки. Во—вторых, вместо обтрепанных книжек про Ленина и про персонажей мыльных опер, какими полны зоновские библиотеки нашей самой читающей в мире страны, Люба стала получать настоящие хорошие книги: да хоть того же маловероятного в местах лишения свободы Иосифа Бродского! Который был тоже, заметим, поэтом и тоже типа сидел.
В—третьих, и в—главных, из простой и безымянной зечки Любовь Небренчина стала—таки настоящим поэтом: настоящим в том смысле, что она наконец опубликовалась. В том самом альманахе «Тюремные хроники», который она же и составила! Она кинулась составлять новый выпуск, мучительно отбирая лучшее. Совершенно по—русски: не было бы счастья, да несчастье помогло…
А потом Любу помиловали. В последние дни отсидки поэтессу в неволе – в русле лучших традиций русской словесности – я и навестил.
ЕДИНСТВО МЕСТА – ЗОНА, ЕДИНСТВО ВРЕМЕНИ – СРОК
Для начала пара слов про место действия. Женская колония в поселке Шахово под Орлом – даром, что строгого режима – славится своей либеральностью. Кроме бедности условий, часто переходящей в нищету, там особенных тягот на первый взгляд вроде и нет. Начальнику колонии Юрию Афанасьеву на скудность хозяйства еще больней смотреть после того, как его свозили в Швейцарию и показали тамошние богатые тюрьмы, где на обед – это ж надо! – равиоли. Кто не знает, что это всего лишь пельмени, иной раз даже и без мяса, того это разит наповал.
Вообще Афанасьев – человек добродушный, и открытый, и прямой, он не пытается выглядеть ни более умным, ни более тонким, чем есть. И это очень симпатично! Немаловажно и то, что сам он прежде был сельским учителем… Зечки его любят, называют Афоней и беспокоятся, когда в прохладный вечер он заходит в зону без кителя, – как бы не простудился… Такая деталь: полковник лично отвез стихи Любы в областную газету, где их и тиснули.
Приезжаешь в гости к Афанасьеву, идешь по его зоне… После прочтения в наших газетах множества экзотических рассказов про блатную романтику, наколки, понятия и поножовщину, про могучую темную лагерную энергетику странно видеть безответных тусклых женщин, робких, забитых, рано постаревших, унылых, в неяркой одежде. Какие у них интересы? Поесть досыта, курева добыть и чаю, выйти пораньше – впрочем, если есть куда. Тем интересней поговорить с человеком из их мира, у которого есть и другие, выходящие за пределы колючей проволоки интересы, который пытается мыслить и смотреть на колонию со стороны.
Нельзя, конечно, было рассчитывать на то, что Любу в колонии любят все, а черной завистью не завидует никто: это ж все—таки Россия, там же в зоне все тот же добрый наш народ! Вы и без меня знаете, как он смотрит на тех, кто не такой, как все. «Арестантка она, и больше никто. Еще увидите, как она своих благодетелей ограбит, а деньги на наркотики пустит!» – и такое там, разумеется, мне говорили…
Когда я приехал, Люба была в медсанчасти – по причине легкого нездоровья. Меня впустили в кабинет врача, куда после привели и ее. Люба оказалась и вправду хороша: даже тут, в нищете, когда нет возможности себя ничем украсить, в обстановке настолько суровой, что даже мыла на всех не хватает. Говорили мы без свидетелей, так что беседа получилась.
«ДО ФРАНСУА ВИЙОНА МНЕ ДАЛЕКО»
– Люба! Я думал, вы что—то вроде Франсуа Вийона, принципиального идейного разбойника, которого преступления поэтически вдохновляли. А у вас в приговоре всего один эпизод, да и то какой—то невыразительный…
– Да какой там Вийон! А преступление – что? Оно и есть преступление. Тут смысл в том, что ты уже преступил некую черту…
– Значит, не было у вас упоения разбоем?
– Нет, совершенно! Какое там упоение! Это безысходность была, что ли… Там была квартирная хозяйка… Нет, не хочется об этом!
– О'кей, не хотите – не будем, – отвечаю. Тем более что я в курсе подробностей, они банальны и скучны. Ну, тогда коротко расскажите о себе.
– Я из Новокузнецка. Семья наша давно развалилась, у мамы – новое замужество. Я решила стать самостоятельной и для этого вышла замуж в 16 лет по липовой справке о беременности. Я по—детски мечтала, что года за три тайком от мужа скоплю денег в Сбербанке, встану на ноги и разведусь. Муж был «афганец», нервный, поломанный. Все эти распри… Через месяц я ушла. Работала в детском саду, после диспетчером, кастеляншей. Потом случилась трагедия с сестрой, и у меня начались наркотики. И вот она я – здесь.
«НАС СУДИЛИ, А МЕНТОВ – НЕТ»
– Вы помните подробности перехода из того мира в этот?
– Помню… Как же меня били на этой Петровке! Дубинками, ножкой от стула, сапогами. Били, били, а после на пять суток посадили в «обезьянник». Сижу там на лавочке, кровь с разбитой головы капает, внутриматочное кровотечение открылось… А моего подельника изнасиловали. Нет, не в камере его опустили, а сами менты! После того, что с нами сделали, нам казалось, что мы уже сполна получили наказание и теперь нас должны выпустить. Но после был суд. Да, мы совершили преступление, но те милиционеры тоже ведь уголовники! Однако нас судили, а их – нет. Что нам хотели этим сказать? Что справедливости не бывает, так? ЭТО так меня гложет! Да почти всех бьют… В общем, в зону мы приезжаем все уже дерганные, мы тут все ненормальные.
ДОБЫЧА РАДИЯ В КОЛОНИИ
– Мне было бы интересно узнать, где, когда и при каких обстоятельствах вы стали писать стихи.
– Ну, у меня были на уровне первой влюбленности какие—то стишочки в 13—14 лет… А писать серьезно, так, что уже стала нуждаться в этом? Это в тюрьме началось. В Москве, в 6—м изоляторе на Шоссейной, его в народе называют Бастилией. Тюремная жизнь… Я там принялась ночами не спать, у нас по ночам были посиделки. Одну ночь не сплю, другую… Такое состояние чудное. И вот в голове что—то стало проясняться, проясняться… Потом пошло, пошло, какие—то строчки лезут. Дело в том, что мне и рифму—то не нужно подгонять! Бывает, что сама ложится хорошо. А бывает, не ложится; я тогда без рифмы обхожусь – как ляжет! Так вот я тогда написала стихотворение о родном доме…
– Вы много уже написали?
– Шестьдесят или семьдесят.
– Они вам самой нравятся?
– Когда я их перечитываю месяца через два—три, многие мне не нравятся, я не люблю их, хочу их переделать, а люди говорят – ты что, это нормально, хорошо! Но мне кажется, все—таки надо отсеять, и тогда останется немного стихов.
– Расскажите про тюремный альманах.
– Я придумала собрать стихи тюремных поэтов. Набралось их немало, но много бездарных! Даже ниже среднего уровня. Я первое время так огорчалась по этому поводу…
– Но ведь есть, наверно, и хорошие поэты в зонах?
– Конечно. Есть такой Абдурахманов Саша, он сидит в Иркутске. Безроднов Игорь – из Башкортостана, стихи его отличаются от других. Из Башкортостана вообще много пишут, они там почти все молодцы. Валерий Абрамкин, известный правозащитник, говорит, что тюремные стихи часто пишутся – в силу определенной специфики – шансонным слогом…
Всего на зонах набралось поэтов человек 60. У меня картотека со стихами, я выбираю, поправляю иногда – ну, бессмыслицу вычеркнешь, что—то свое внесешь, и если есть заряд, отправляю в Москву Людочке Альперн. Вышел уже один выпуск! Мне быстрей хочется второй. Очень много задумок. Мне часто верующие пишут: «Сделайте журнал, чтоб восхвалять Бога в стихах!» Можно б и так, но пока нет средств.
ПОЭЗИЯ – ТОЖЕ НАРКОТИК
– У вас, Люба, есть опыт приема наркотиков. И вот я вас хочу спросить как знающего человека: правда ли, что творчество – это как наркотик?
– С этим полностью согласна. Это как наркотик, действительно. Примешь наркотик – сразу полегчает. И тут похоже: выплеснешь что—то в стихотворение, и сразу такое облегчение, эйфория…
– А настоящие наркотики? Что вы о них теперь думаете?
– Это суррогаты… К ним прибегаешь, когда нет выхода в жизни. Наркотики заменяют смену настроений, заменяют любовь, семью. Это такое болото. Думаю, наркотики даны природой для какого—то лечения, расслабления. Люди же, не зная чувства меры, превращают это в увлечение, в привычки губительные…
– Расскажите, как говорится, о ваших творческих планах!
– С этим помилованием у меня сейчас мысли вразбег. Но я знаю, что буду поступать в Литературный институт!
– Зачем?
– Мне это надо, действительно надо! Поднатаскаться, круг общения расширить, там ведь будут литературные люди. Только сначала школу закончу экстерном. Там нужны публикации… Я начала писать рассказы о зоне, о женщинах – про ужасное.
– А самое ужасное – что?
– Загубленность, что ли, душ, потерянность. Мало таких, которых можно назвать женщинами! Многие давно махнули на себя рукой, перестали себя уважать. Курят самокрутки, ходят непричесанные, в немыслимых одеждах… Я хотела тут устроить выставку рисунка. Но женщины какие—то апатичные, спрашивают: «А что нам за это будет?» Ничего им не надо… Безвольные, загубленные существа! Я женщин тут такими увидела, я привыкла, что они именно такие и никакие больше. А есть такие, которые с виду – мужики, я их поначалу ужасно стеснялась! Заходишь в душ, в баню, а там они…
– А стихи у вас есть про тюрьму?
– Нет, не хочу, не люблю. Я пишу про свои ощущения в тюрьме, про безысходность, но не указываю, что это – тут. Может же и на свободе быть тоска…
– Дневник ведете?
– Да, но там… Очень откровенно. Если его публиковать, то только в сокращении.
ВРОДЕ ДАВНО ВСЕ СКАЗАНО ПРО ЛАГЕРЯ
– Вам тут есть с кем поговорить?
– Из осужденных? Есть один—два человека, с которыми я общаюсь, но не больше. Рассказываю им какие—то свои секреты, надеюсь, они не выдадут. А остальные… Я в себе стараюсь больше копаться… Поэтому – стихи, поэтому – дневник; это выручает. А что ж время даром терять? Перебирать эту жизнь, вникать в ее мелкие интрижки? Тут свой мир… Одна другой насолила – идет обсуждение, как отомстить. Или зависть. Какая—нибудь вещь или просто факт, что кому—то помогают с воли, – все может стать предметом зависти со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы же какие? Всем завидуем! Бабы есть бабы… И болтушки страшные. Поэтому подальше, подальше от этого, чтоб не засосал этот быт, эта жизнь. Если я смотрю нормально на этих людей и не удивляюсь, это уже значит, что меня засасывает…



