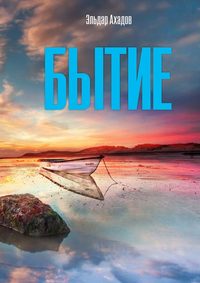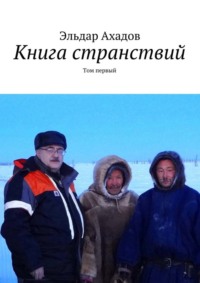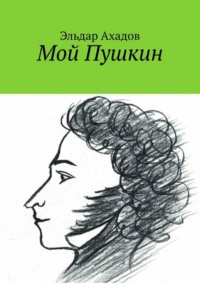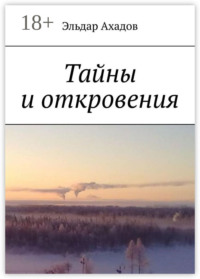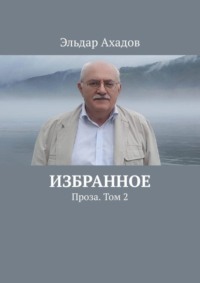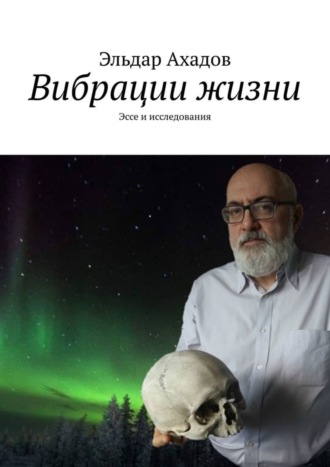
Полная версия
Вибрации жизни. Эссе и исследования
Есть такой великий учёный – Стивен Хокинг. Он сказал, что всё в мире можно объяснить с помощью законов физики и квантовой механики, но само происхождение Вселенной «из ничего» разумному объяснению не поддаётся. «Пока большинство ученых слишком заняты развитием новых теорий, описывающих, что есть Вселенная, им некогда спросить себя, почему она есть. Философы же, чья работа в том и состоит, чтобы задать вопрос „почему“, не могут угнаться за развитием научных теорий.… Но если мы действительно откроем полную теорию, то со временем её основные принципы станут доступны пониманию каждого, а не только нескольким специалистам. И тогда все мы, философы, учёные и просто обычные люди, сможем принять участие в дискуссии о том, почему так произошло, что существуем мы и существует Вселенная. И если будет найден ответ на такой вопрос, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел Бога» [Хокинг, 1990, с. 147].
Принцип непостижимости Бога заключается в невозможности определения ни Его сущности, ни принципов Его воздействия на мир, ни, тем более, Его облика или законов Его личностного развития. Несмотря на оптимизм научного сообщества, полагаю, что дверь в непознанное и непостижимое всё ещё не открыта и будет (если будет) открываться ещё очень и очень долгое время, предоставляя нашему разуму всё новые сюрпризы.
Библиографические источники
1.Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Российское библейское общество, 2003
2.Евангелие от Марка
3.Евангелие от Матфея
4.Евангелие от Луки
5. Евангелие от Иоанна
6.Иосиф Флавий. «Иудейские древности». Беларусь, 1994
7.Косидовский З. «Сказания Евангелистов». – М.: «Политиздат», 1987
8.Эд Сандерс. «Иисус и иудаизм». – М.: «Мысль», 2012
9. Гусейнов А. А. «Великие пророки и мыслители. Нравственные учителя от Моисея до наших дней» – М.: «Вече», 2009
10. Болотов В. В. «Лекции по истории древней церкви» в 4 т., Т2 – М.: Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный монастырь, 1994
11. Горелов, Анатолий Алексеевич. История мировых религий [Текст]: учебное пособие / А. А. Горелов; Российская акад. образования, Московский психолого-социальный ин-т. – 5-е изд., стер. – Москва: Флинта: Московский психолого-социальный ин-т, 2011
12. Кассиан (Безобразов). « еп. Христос и первое христианское поколение». 3-е изд. Париж; Москва, 1996
13.Мень А. (протоиерей). «История религии»: В 7 т. – М., 1992
14. Кошмина И. В. «Основы русской православной культуры». – М.: «Владос», 2001
15. К. Каутский. «Происхождение христианства». – М.: «Политиздат», 1990
16. А. Б. Ранович. «Первоисточники по истории раннего христианства». – М.: «Политиздат», 1990
17. Маркус Борг. « Бунтарь Иисус. Жизнь и миссия в контексте двух эпох». – М.: «Эксмо», 2009
18. Джон Доминик Кроссан. «Библия – Ужас и надежда главных тем священной книги». – М.: «Эксмо», 2015
19. Ренан Э. «Жизнь Иисуса». Киев. 1905. Репринт. – М.,1990
20. Даувальтер В. Г. «Историческая личность Христа». – М.: «Память», 1992
21Флуссер Д., Бультман Р. «Загадка Христа». – М.: «Эксмо», 2009
22.Крывелёв И. А. «Что знает история об Иисусе Христе». – М.: «Советская Россия», 1969
23.Усольцев С. А. «Проблема генезиса образа Христа в отечественной историографии раннего христианства: диссертация… кандидата исторических наук»: 07.00.09. – Барнаул, 2003
24.В качестве информативной составляющей использованы материалы следующих интернет-источников, связанные с упомянутыми темами и терминами:
24.1.Иосиф Флавий. «Иудейская война»: http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/voina/
24.2.Сапунов Б. В. «Земная жизнь Иисуса»: http://sir35.narod.ru/Sapunov/NEWIISUS/EPILOGUE_23013.htm#N
Мысли
Чудеса случаются только с теми, кто в них верит
* * *
Если у тебя такое настроение, что хочется обнять весь мир, а не получается: не унывай, обними хотя бы одного человека.
* * *
Если о тебе кто-то думает, значит, ты есть.
* * *
Если ты попал под дождь, не расстраивайся: тебя поцеловало небо. Если случайно оказался в воде, не огорчайся: тебя пытается обнять океан. И даже если провалился так глубоко, что всё ещё падаешь, успокойся: с другой стороны Земли тоже сияют звезды. ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО.
* * *
Если тебе в голову пришли добрые мысли, будь с ними гостеприимен. А если – недобрые, передай им, что тебя нет дома.
* * *
Вы даже не представляете себе, как я вас люблю. Думаете, я – представляю? И я не представляю.
* * *
Прыгай! Если падать уже некуда, значит, полетишь.
* * *
Самое важное нужно говорить вовремя. Пока есть, кому сказать.
* * *
Когда мы уходим, что-то всегда остаётся там, где мы были.
* * *
Дело не в том, что вы хорошие, а они плохие, или они плохие, а вы хорошие. Просто вы – разные.
* * *
Глупости делают все. Только умные признаются в них, а остальные – никогда.
* * *
Всегда лучше здесь и сейчас, чем там и потом.
* * *
Когда всюду светло, дорогу видит каждый. Когда темно – лишь те, в ком есть свой источник света.
* * *
Никогда не отступай. Однажды твоё упрямство может так надоесть жизненным обстоятельствам, что отступят они.
* * *
Предчувствия никогда не обманывают, просто не все понимают их язык.
* * *
Не гонитесь за сбежавшей мыслью. Набегается – вернётся. Не вернётся… значит, не набегалась.
* * *
Что помнится – то и было…
* * *
Не откладывай на завтра то, чего не сделаешь никогда, если не сделаешь сейчас.
* * *
Чувства сильнее знания, музыка точнее слов.
* * *
Существует лишь то, во что ты веришь. Того, во что ты не веришь, не существует.
* * *
Однажды Бога спросили: существует ли человек? Бог улыбнулся и не ответил. Но надежда осталась…
* * *
Чаще всего случается то, чего не только не ждешь, но о чем даже не догадываешься.
* * *
Бог слышит каждого – даже там, где никто не слышит Его.
* * *
Двое нищих просили милостыню. Но никто им не подавал. Один из нищих проклинал каждого прошедшего мимо, а другой – благодарил и желал доброго пути. «Зачем ты это делаешь? Ты же видишь, что никто не подает!» – завопил проклинающий. «Я подаю им надежду», – улыбнулся в ответ второй.
* * *
Ты любишь жизнь, хочешь остановить время и жить вечно. Но ты живешь лишь потому, что меняешься каждый миг. Жизнь – непрерывные изменения. Если они прекратятся, жизнь исчезнет.
* * *
Если у тебя нет денег, это не значит, что у тебя нет ничего. И даже если у тебя вообще нет ничего, у тебя есть ты.
* * *
«Подайте на пропитание!» – долго-долго кричали нищие. «Бог подаст!» – слышалось в ответ. И пропитались они криком своим…
* * *
Если человек что-то делает, это обязательно кого-нибудь раздражает. Особенно тех, кто не делает ничего.
* * *
Почему нужно говорить правду? Потому что неправду знают все.
* * *
Не возражайте начальнику. Он все равно не знает – чего хочет…
* * *
Самый невыгодный товар – совесть. Как только её пытаются продать, она исчезает.
* * *
Не впускай в душу свою никого. А если впустил: терпи. Будет больно.
* * *
Обида калечит лишь того, кто обиделся. К обидчикам она равнодушна.
* * *
Любой человек в первую очередь – человек, а уже во вторую – всё остальное, ибо если он не в первую очередь человек, то он вообще ничто.
* * *
Сильные стороны характера делают людей великими, зато слабые – делают их людьми.
* * *
Никогда не спрашивай кукушку сколько тебе жить. Не ее это дело.
* * *
Если у вас вечно нет времени ни на что, значит, на что-то его у вас слишком много.
* * *
Работа – не сон, случайно не спугнёшь.
* * *
Труднее всего быть самим собой тому, в ком нет ничего своего.
* * *
Пронзительнее всего молчание.
* * *
Если ваши мысли крутятся не в ту сторону, не расстраивайтесь: возможно, вы – Южном полушарии.
* * *
Если вы обнаружили человека, который всегда, везде при любых обстоятельствах правильно говорит, правильно поступает и никогда не ошибается, будьте осторожны, вы в опасности: это не человек.
* * *
Любой человек в первую очередь – человек, а уже во вторую – всё остальное, потому что если не в первую очередь, то он вообще никто.
* * *
Если кушать хочется, а пища не подходит, подойдите сами.
* * *
Если у тебя есть всё, но… ни на что нет времени: зачем тебе всё это?
* * *
Сильные стороны характера делают людей великими, зато слабые – делают их людьми.
* * *
Вопросы возникают у тех, кто думает. Тем, кто не думает, всегда всё ясно.
* * *
Помощь непременно придёт, но как обычно: не туда, не тогда, и не к тем.
* * *
Все стремятся к вершинам. В действительности на вершинах нет ничего. Все самое интересное – либо внизу, либо гораздо выше…
* * *
Иногда легче попросить о чём-то первого встречного, чем человека, которого знаешь десятки лет. Почему? Потому, что ты его слишком хорошо знаешь.
* * *
Не говори правде: «Пошла вон!». Непременно вернётся и добьёт.
* * *
Все живут в своё удовольствие. Только удовольствия у всех разные…
* * *
Первого раза дважды не бывает.
* * *
Истина зачастую не очень красива. Поэтому знать её хотят все, а видеть… никто.
* * *
И знаем мы не всё. И не всё, что мы знаем – истина.
* * *
Никто не может принести человеку столько страданий, сколько он сам.
* * *
Ни о чём не проси добрых, щедрых и отзывчивых людей. Не вынуждай их становиться жадными, лживыми, бездушными, вечно избегающими тебя.
* * *
Обычно молчат тогда, когда ничего плохого говорить не хочется, а ничего хорошего сказать невозможно.
* * *
Иногда достичь цели – не главное. Важнее знать, как выбраться оттуда, куда тебя занесло по своей же воле.
* * *
Чаще всего наказывают тех, кто пытался сделать хоть что-то там, где остальные не ударили палец о палец.
* * *
– Закройте глаза. Расслабьтесь и смотрите. Что видите?
– Ничего.
– Странно. Где же ваш богатый внутренний мир?
* * *
Самое дорогое в жизни – её опыт. За него многие платят высокую цену. Можно, конечно, пытаться и тут сэкономить… но помните: ничем не оплаченное не стоит ничего. Дёшево оплаченное – стоит дёшево. Сколько заплатите, столько и будет стоить ваш жизненный опыт.
* * *
Если у вас ни на что не хватает времени, значит, на что-то – его слишком много.
* * *
У победы всегда семеро с ложкой и все – матери.
* * *
Если что-то отдают плача и скорбя, то лучше пусть не отдают. Пусть оставят себе и радуются: хоть кому-то будет приятно.
* * *
Будущее – прошлое, которого ещё нет. Прошлое – будущее, которого уже нет. Настоящее – воображаемое место перехода будущего в прошлое. Отдельно от них настоящего не существует.
* * *
Ложь приносит прибыль. Правда спасает душу.
* * *
Человека невозможно победить пока он сам не признает себя побеждённым.
Неслучайные встречи
Прикосновение к Вечности
Ощущение соприкосновения с душой Анны Андреевны, с её миром не покидает меня с той самого дня, когда случилась эта небольшая, реальная, несмотря ни на что, история.
Ахматова скончалась 5 марта 1966 года, в те времена, когда мне не исполнилось и шести лет. В таком возрасте я, увы, ещё не писал никаких стихов, хотя чтение любил и читал много. Естественно, в основном сказки. Стихи для меня начались с мая 1968 года.
В конце семидесятых годов, я, оказавшись в качестве студента горного института в городе на Неве, проживал в общежитии на том самом Васильевском острове, о котором Иосиф Бродский написал однажды: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать…»
Несколько моих товарищей, так же как и я, занимавшихся в ту пору стихотворчеством и влюбленных в поэзию Ахматовой, как и в самый воздух Ленинграда, узнали от кого-то о том, что в Пушкине существует первый в стране, неофициальный музей Анны Андреевны. Разумеется, романтический флёр неофициальности, а значит почти подпольности этого музея, явился для нас дополнительным стимулом, подвигнувшим к вылазке в бывшее Царское Село.
На дворе стояла замечательная тихая петербуржская осень. С туманами. С пурпурно-золотым великолепием ухоженных парков и скверов Павловска и Царского Села. И вот мы, трое студентов, уже бродим по аллеям города Пушкина, и под легкий шум осенней листвы читаем друг другу по памяти бессмертные строки поэтов «Серебряного века». И, кажется, будто эти необыкновенные слова возникают сами собой, произносятся сами собой, как бы существуя вне времени под строгим и торжественным петербуржским небом
Что представлял из себя в те годы музей Ахматовой, получивший в дальнейшем статус народного? Обратимся к документам…
Более тридцати лет в своей однокомнатной квартире бескорыстный и самоотверженный коллекционер Сергей Дмитриевич Умников скрупулезно собирал всё, что так или иначе относилось к жизни и творчеству великой Анны Ахматовой. Начало коллекции было заложено в те времена, когда имя Ахматовой упоминалось вскользь и с оглядкой, а уж о создании какого-либо музея и речи быть не могло!
Конец семидесятых годов прошлого столетия. Улица Вокзальная, дом 25. Сейчас эта улица носит гордое наименование Ахматовской. Если не знать точно, что именно в этом внешне ничем непримечательном жилом строении находится первый в мире музей русской поэтессы, то можно пройти мимо. Но мы знали куда идем. Поднимаемся с парадного входа по скромной советской лестнице. Звоним. Дверь открывает пожилая женщина – смотритель. Собственно, здесь ещё нет никаких билетиков и вообще всё на общественных началах. Почему-то в тот момент вспоминались фильмы с эпизодами про заговорщиков, в которых настороженно-пронизывающие взгляды, щеколды и напряженно-тихий шепотом вопрос: «Вы от кого, товарищ?»
Нет, ничего такого, к счастью, не произошло. Две улыбчивые гостеприимные бабушки показали трем молодым джентльменам удивительную музейную экспозицию. Самого Сергея Дмитриевича на тот момент в квартире не было: возраст в который раз давал о себе знать очередной простудой. Пенсионеру, родившемуся в далеком 1902 году, и посвятившему десятки лет жизни подвижническому труду собирательства всего, что связано с именем Анны Андреевны, лишенного какой бы то ни было поддержки со стороны государства, приходилось нелегко. При этом нужно учитывать, что помимо коллекционирования Умников окончил сельскохозяйственный институт (ныне СПбГАУ), по окончании института защитил кандидатскую диссертацию, много лет работал ассистентом, а потом доцентом кафедры общего земледелия, то есть, отдал на благо того самого государства львиную долю своей жизни!
Помню, как глубоко поразило нас тогда обилие экспонатов музея-квартиры: дореволюционные экземпляры стихотворных сборников начинающей поэтессы, поэтические книги более позднего периода творчества, изданные не только на русском, но и на немецком, английском, болгарском языках. Далее – сборники ахматовских переводов с норвежского, корейского, китайского, греческого… Труды, посвященные жизни и творчеству Ахматовой: В. Жирмунский, Б. Эйхенбаум, В. Виленкин, В. Виноградов, Э. Голлербах, Л. Чуковская, В. Мануйлов, А. Хейт, Б. Кац и Р. Тименчик, А. Павловский, Д. Хренков… И, конечно, обширные воспоминания о великой поэтессе ХХ века. Многие книги – с дарственными надписями авторов. А ещё – повсюду: множество фотографий: самой Анны Андреевны, ее родных и близких, друзей и современников. Мне особенно запомнилась одна из них: с мужем – гениальным поэтом Николаем Гумилевым и маленьким сыном Лёвой, будущим ученым-евразийцем, светилом мировой науки – Львом Николаевичем Гумилевым, несмотря ни на какие лишения и тюрьмы не предавшим ни памяти, ни имени своего отца!
Уже тогда нас поразили обширностью географии и количеством письма музею Сергея Дмитриевича. Среди их отправителей были и художники, и поэты, и актеры, и коллекционеры и просто почитатели гения Ахматовой. Говорят, что сейчас в музее хранится несколько толстенных книг отзывов, заполненных посетителями… В то время, когда мы посещали квартиру Умникова, таких книг там ещё не было.
В тот осенний вечер хранительницы памяти Ахматовой (к сожалению, за давностью лет уже не помню их имен, а вот лица помню поныне!) пригласили нас немножко почаевничать. За чаем разговорились. Слово за слово – нас попросили почитать стихи. Естественно, мы охотно откликнулись.
Видимо, мои юношеские строчки чем-то понравились пожилым женщинам, тронули их, потому что помню, что когда мы уже собрались уходить, они настоятельно начали просить меня записать хотя бы одно из стихотворений. И проблем бы не было, если б не одна беда, от которой я зачастую страдаю и сейчас. Дело в том, что у меня хронически отсутствуют в карманах то бумага, то ручка или карандаш. А в половине случаев – не находится ни того, ни другого.
Вот и тогда не оказалось у меня с собой абсолютно ничего: ни клочка бумаги, ни писчего инструмента. Что делать? Авторучка у милых пожилых женщин все-таки нашлась. А вот с бумагой тоже оказались проблемы. На чужих книгах не станешь ведь писать? Нет. На музейных газетах, афишах и фотографиях – тоже. Наверное, какая-то книга учета посетителей у хозяина дома была, но… не было самого хозяина.
Наконец, одна из бабушек с сияющим лицом достала откуда-то из загашников музея обыкновенный блокнот (не альбом! Именно – блокнот!), заглянула в него и обнаружила, что последний листочек в нем не заполнен никаким текстом…
Там, второпях, не разглядывая ничего, чтобы не заставлять ждать своих товарищей, я и записал свой стих. Старушки поблагодарили нас, мы их, время было, может, и не позднее, но осенью темнеет быстро, а до города нам ещё доехать надо… и тут вторая хранительница, собиравшаяся положить блокнот на место, обнаружила то, на что в спешке, увы, никто не обратил внимания! Мои стихи оказались записанными на последней странице ахматовского блокнота! Все остальные его страницы, оказывается, были заполнены почерком самой Анны Андреевны!
В прихожей перед дверью образовалась заминка. В воздухе повисло молчание. Все переглянулись, не зная – что сказать, потом ещё раз тихо и торопливо попрощались.
…Сейчас, по прошествии стольких лет, я вспоминаю этот казус с огромной благодарностью судьбе, позволившей мне такую роскошную случайность: остаться навсегда в ахматовском блокноте! Это – как прикосновение к Вечности, как тайный знак, как напоминание о своей пожизненной ответственности перед Словом.
Кто знает, почему иногда происходит такое? Иногда, в самые нелегкие мгновения своей жизни, мне кажется, что дух Анны Андреевны где-то рядом, что она не забыла о том юноше, который по неведению своему оставил свой след рядом со строчками, написанными её рукой…
И я снова улыбаюсь и думаю, что наша встреча с ней… всё-таки состоялась. Невзирая на время и пространство.
Последний поклон (воспоминания о В. П. Астафьеве)
Эльдару Ахадову с поклоном и на добрую память « Виктор Астафьев, 14.02.2000г.»(надпись на книге)Мысль записать то, что сохранилось в моей памяти о встречах с Виктором Петровичем, появилась у меня практически сразу же после известия о кончине великого русского писателя. Да, всё никак не мог заставить себя собраться, только теперь, спустя несколько месяцев после похорон…
Каким же он запомнился мне? Весёлым. Его жизнерадостный от сердца открытый смех помню очень хорошо. В декабре 1995 года в помещении редакции литературного журнала «День и ночь» от всей души развеселил его мой застольный рассказ о первом знакомстве с Сибирью. Беседовали мы довольно долго, Виктору Петровичу кто-то пытался напомнить о времени, да он всё отмахивался. Впрочем, я и сам, увлекшись своим рассказом, сгоряча так и не заметил сновавших вокруг нас телевизионщиков. Только после, уже дома – увидел фрагмент нашей беседы с Астафьевым по телевизору. Видимо повествование о моих приключениях пришлось ему по душе: отборного коньячку по ходу дела он, улыбаясь, подливал сам… Ещё от той нашей встречи у меня сохранилась первая подписанная самим писателем книга.
Помню Виктора Петровича взволнованным и растроганным. Это было на церемонии посвящения в лицеисты одаренных ребят из Красноярского литературного лицея. Вокруг писателя всегда вращались разные люди: чиновники от литературы и просто чиновники, литераторы, которым что-нибудь нужно было от него, просто восторженные поклонники и поклонницы. Быть назойливым – не в моем характере. От того, что ни разу я не навязал ему своего присутствия, непосредственное общение с ним, было для меня бесценным, ибо случалось оно только естественным ненамеренным образом. А в тот раз наши места в актовом зале дома Союза Писателей случайно оказались рядом: он поздоровался и присел справа возле меня. Выступления юных лицеистов, церемония их награждения, посвящение в лицеисты новичков и само вручение ученических билетов ребятишкам – дела, которыми в тот день пришлось отчасти заниматься и самому Виктору Петровичу, всерьёз взволновали его. У него было доброе отзывчивое сердце…
После того, как молодежь ушла, на чаепитии с Виктором Петровичем осталось несколько красноярских писателей и педагогов литературного лицея. Были Михаил Успенский, Сергей Задереев, Марина Саввиных, ещё несколько человек. Рассказывал он тогда о том, как разные политически ангажированные местные и московские организации постоянно обращаются к нему с просьбами высказаться по тому или иному событию, поддержать их позиции, и о том, как он устал от всего этого, постоянно отказываясь участвовать в этих сиюминутных игрищах…
Ещё помню великого писателя огорченным до глубины души после заседания писательской организации, на котором как-то разом вылезли наружу все накопившиеся противоречия, взаимные обиды, обнаружился раскол в писательских рядах…
Виктору Петровичу было уже нелегко ходить. Он вышел, опираясь на палочку, встал перед всем обществом и в качестве аргумента против раскола организации зачитал отрывок статьи Валентина Курбатова. Я помню его резкий и гневный голос в тот вечер.
А ещё я помню Астафьева одиноким. Это было после торжественного праздничного концерта в Большом Концертном Зале города. Концерт был посвящен двухсотлетию со дня рождения другого великого русского писателя и поэта – Александра Сергеевича Пушкина. В зале присутствовали потомки Пушкина со всего мира, было множество людей из местной и приезжей культурной элиты общества, руководители города и края. И вот по окончании действа, когда народ стал расходиться, получилось так, что я поотстал от схлынувшей уже из зала толпы, увлекшись беседой с одним из потомков Александра Сергеевича, приехавшего из Иркутской области. В холле было уже наполовину пусто, когда я, неожиданно для себя, заметил впереди одинокую фигуру опирающегося на трость, медленно и тяжело идущего пожилого человека. Это был Виктор Петрович Астафьев. Помню, как поразила меня эта одинокость, тем более удивительная при том обилии людей бомонда и временщиков разного толка, которые постоянно вились вокруг!.. Никто не предложил ему помощи, никто вроде как… не заметил его! При том ажиотаже вокруг его имени, который ощущался все время, это было невообразимо, но… Он был ОДИНОК. И ни одна живая душа этого не заметила в тот ликующий праздничный день.
Помню нашу с ним короткую беседу в день Победы. Мы сидели рядом на одном бежевом диване в кабинете председателя писательской организации. Он пригубил вина за ту самую Победу, за которую заплатил когда-то своей кровью, и сидел, тихий, задумавшийся о чем-то, о своём…
Все знали, какую тяжелую борьбу вел он в то время со своими болезнями, как держался на одном только своём несломленном великом духе. Мне захотелось как-то приободрить, поддержать Виктора Петровича. Я спросил у Астафьева насколько интересно ему жить в нынешнее время, когда каждый день приносит что-то новое в жизнь общества, страны и мира в целом. И вдруг услышал в ответ совсем не то, что ожидал… «Нет,» – сказал Виктор Петрович, – «Всё уже было в моей жизни и ничего интересного или нового, кроме давно мной ожиданного и предвиденного не будет. Одно только меня радует по-прежнему: Это когда солнышко утром восходит и птички поют…» И столько было мудрого спокойствия в этих его словах, что запомнились они мне с той поры на всю жизнь.
Я не знаю: читал ли Виктор Петрович мою книгу, которую я передал его супруге Марии Семёновне, заглянув однажды в их всегда гостеприимный дом в Академгородке. Надеюсь, что успел полистать, Он тогда лежал в больнице после очередного кризиса. Мария Семёновна поблагодарила меня, участливо спросив о трудностях с финансированием издания поэтических произведений. А книга называлась – «ВСЯ ЖИЗНЬ», в память о той нашей беседе с Виктором Петровичем.