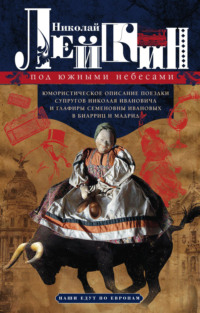полная версия
полная версияНеунывающие россияне
В это время с мужиком поравнялся жирный немец, тот самый, что умилялся при звуках тромбона. Он пыхтел и по-прежнему тёр свою лысину фуляром. Мужик снял шапку.
– Нагуляться изволили, Карла Богданыч? – приветствовал он его.
– О, да… Я выпил мой пиво и теперь делает мой моцион домой, – ответил немец и направился на дачу.
Старушка Роза Христофоровна крошила в кухне картофель и селёдку к ужину. Карл Богданыч нежно чмокнул её в шею и пошел к себе на верх разоблачаться, дабы надеть халат и ермолку и в таком виде предаться на верхнем балконе счастливому ничегонеделанию.
А на нижнем балконе в это время сидела юная Амалия, его единственная дщерь, с бледно-серыми глазами, напоминающими петербургское небо в летнюю ночь. Рядом с ней помещался Фридрих, совсем желтоволосый конторщик из страхового Общества. Они вздыхали и глядели друг на друга, глядели друг на друга и вздыхали, прислушиваясь к стуку дятла, к кукованию кукушки, к стуку ножа Розы Христофоровны, доносящемуся из кухни.
Фридрих первый прервал молчание.
– Сегодня мой принципаль сделал мне прибавку, и я буду получать сто рублей в месяц, – произнес он. – Это норма, мой идея.
– Поздравляю вас. Вы счастливы? – спросила Амалия и громко вздохнула.
– Нет, мой счастия неполный, как и я человек не полный. Я половинка, я ручка без топора, – ответил он и вздохнул еще громче.
– Но зачем же вы не ищете топора? – робко задает вопрос Амалия и потупляет глазки.
– Я искал и нашел, но не смел до сих пор взять эта топор. Я был шестьдесят рублей на месяц, а это не норма, не жизнь с топор. Теперь, когда я конторщик на сто рублей… о, я могу… это норма. Добрый хозяйка может хорошую жизнь сделать своему мужу на сто рублей. Квартира двадцать пять рубли, дров пять рубли, обед, фриштик – тридцать рубли, платье двадцать рубли, пять рубли шнапс, пиво, театр, клуб и пятнадцать рубли спрятать на Sparbüchse {в копилку}…
Следуют шесть вздохов. Три со стороны Фридриха и три со стороны Амалии. Амалия наклоняет голову, и, перебирая передник, смотрит себе в колени.
– Я Фелемон без Бауцис, я Абеляр без Элоиза, – я Фридрих без…
Юный, желтоволосый немец вынимает портсигар с вышивкой Амалии и целует вышивку. Амалия совсем наклоняет лицо своё в колени. Ряд вздохов.
– Вы, Фридрих, без экономии. Зачем тридцать рублей на стол? – тихо говорит она. – Надо дешевле жить. Квартира двадцать, обед двадцать. Керосиновая кухня. Суп, щи селедкиной головы с рыбьей шелухой, форшмак, картофель, две сосиски…
Еще вздохи, слышно кукованье.
– Вот кукушка кричит своя Амалия, а Фридрих не может кричат своя…
– Каролина? – тихо подсказывает девушка и уже сгибается в дугу.
– Нет. Зачем Каролина?
Опять вздохи. На дворе крики.
– Ах ты мерзавец! мерзавец! Пошел господину доктору лягушек ловить и опять пьян! – кричит дачная хозяйка на мужа. – Да как тебя, пса анафемского, шелудивого, земля носит? Где лягушки?
– Доктору отдал.
– А деньги где?
– Шину на колесе справил.
– Шину! Нешто в кабаке колеса чинют? Вот как хвачу коромыслом!
Идилия пропала.
– О, эта триклята русска мужик! – восклицает Фридрих и плюёт.
Опять молчание. До нового идилического настроения потребовалась дюжина вздохов.
– Фридрих любит шнапс и пиво, – начинает немец. – Фридрих пьет два шнапс на обед, одна на фриштик и два на ужин… Позволить ему его… Амалия?
– Зачем Амалия? – тихо спрашивает девушка, и бледное лицо её покрывается пятнами румянца.
– Затем, что… О, lieb, so lang du lieben kannst!.. {О, дорогая, сколько можно любить!..} – декламирует он и наклоняется к плечу Амалии.
Ещё мгновение, и бакенбарда его, похожая на паклю, щекочет лицо девушки. Слышны два порывистыя дыхания. Вздохи прекратились.
– Позволит Элоиза свой Абеляр пять шнапс и два бутылка пива? – шепчет он. – Позволит Бауцис свой Фелемон ходить на кегельбан и клуб?
– О, да, да, – слышится ответ девушки.
Рука немца успела уже обхватить её стан и притягивает к себе.
– Амалия!
– Фридрих!
Мгновение и уста их сливаются в один долгий, долгий поцелуй.
На верхнем балконе раздается звонкое, как труба, сморкание. Карл и Амалия вздрагивают.
– Ах, это папа! – восклицает девушка.
– Все равно, einerlei. Komm! – говорит Фридрих, тащит её в сад и опускается вместе с ней на колени перед верхним балконом.
– Kinder! – всплескивает руками добродушный Карл Богданыч и испускает поток слез.
– Vater! – откликаются снизу дуэтом два голоса.
Отец простирает над ними руки. Из дверей нижнtго балкона выходит в кухонном переднике Роза Христофоровна и останавливается в недоумении.
Картина.
А на дереве ступит дятел, кукует кукушка. За углом кто-то ругается. По улице пронесся какой-то дачник на деревенской лошади. У калитки палисадника остановились мальчишки и смотрят на коленопреклоненных.
– Должно быть кольцо потеряли, – толкуют они. – Эх, господин, дали-бы нам гривенничек на пряники, мы бы сейчас отыскали, – слышатся предложения.
Карл Богданыч от полноты чувств совсем растерялся, уронил вниз платок и отирает слезы ночным колпаком.
– Роза Христофоровна, где моя сапога, где моя сапога? – кричит он.
VI. Крестовский остров
Крестовский остров – это облагороженная Новая Деревня, воспроизвед`нная в малом масштабе. Коренному жителю Крестовского острова Новая Деревня уже не покажется адом. Для него она будет только чистилищем. Как в Новой Деревне на первой линии, так и здесь по линии дач, идущих от Русского трактира, ночи не существует. Движение совершается круглые сутки. Впрочем, заглянем.
Час ночи. О том, что теперь именно час ночи, вам, не ошибаясь, скажет и малый ребенок, ежели он коренной житель Крестовского. На это есть свои признаки: к этому времени кончается представление в театре Крестовского сада, и начинают разъезжаться французские актрисы.
– Ого, вон французинок в Самарканд кормить повезли, значит – уж первый час, – подтвердит вам и любой извозчик, ожидающий седока.
Здесь опытному дачнику и часов не надо заводить. Время узнаётся по признакам. Часы – это Крестовский сад. Заиграла музыка военная – ну, значит, семь часов вечера; заиграла музыка бальная – восемь. Пошел акробат по большому, туго натянутому канату – значит, девять часов, началась пальба при взятии турецкой крепости – десять и т. д.
Итак, первый час ночи. По набережной, около дач так и шмыгает народ. Пыхтят папиросы красными светящими точками. От проходящих отдает винным запахом. В некоторых палисадниках мелькают уже распашные белые капоты милых полудевиц, вернувшихся с торжища из Крестовского сада. Правда, оне не просят портретик «Михаила Федоровича» на память, не возглашают: «милости прошу к нашему шалашу», останавливая прохожих, но ловко стреляют подведенными глазками и делают самую вызывающую улыбку. Калитка в садик всегда полуотворена. Изредка попросят они у проходящого мужчины огня, чтоб закурить папироску, и вы можете услышать при этом возглас: «холодного или горячего»? Как в Новой Деревне, так и здесь ругань стоит в воздухе. Извозчики задевают прохожих. Из Крестовского сада доносятся звуки оркестра; на дворах бренчит балалайка, играет гармония. Кто-то напевает пресловутую «Барыню», кто-то выбивает на деревянном помосте мелкую дробь восьмифунтовыми сапогами. Где-то пьяными голосами напевают «Vaterland», где-то гнусят «Сторона ль моя, сторонка»; раздаётся из дачи сиповатый женский голосок, нараспев декламирующий: «я стираю, тру, да тру». Звонит колокол «конно-лошадиной» дороги, параход дает свистки, тщетно ожидая пассажиров, предпочитающих «конку». Визг, писк. Партия стрекачей, сдернув с кого-то башмак, торжественно несёт его, вздев на палку. Городовой навострил глаза, взялся за шашку и хочет ринуться, «чуя нарушение общественной тишины и спокойствия», но, боясь превратить это нарушение в «оскорбление словом и действием», машет рукой и остаётся на своем посту. Мелькают яхт-клубские фуражки дачников, возвращающихся из клуба. Вот идет один; поступь не твердая. Городовой, внимание коего было обращено «на нарушителей общественной»… и т. д., берёт под козырек, приняв яхт-клубиста, по ошибке, за офицера и сейчас-же плюет ему вслед.
– Что, ошибся? – вопрошает его дворник, сидящий за воротами.
– Мудрено ли в этой суматохе ошибиться. Вишь, черти полосатые, нацепили этого позументу! Сертук туда-же флотский. Анафема проклятая! Да тут сгоряча-то хоть борзой пес пробеги в ихней фуражке, так и тому честь отдашь, – отвечает городовой. Лешие окаянные, дерева стоеросовые! Чтоб им здохнуть! – ругается он вслед, хотя яхт-клубисты уже далеко, далеко.
– Отчего ты не исполняешь своих обязанностей? Отчего честь не отдаешь? – раздается над его ухом резкий голос, и перед ним стоит настоящий офицер с дамой под руку.
– Виноват, ваше благородие! – вытягивается в струнку городовой.
– То-то виноват!
Офицер и дама отходят. Городовой смотрит в след.
– Вот подкрался-то! – шепчет он и разводит руками. – Где тут углядеть! О Господи! Вот она, служба-то наша, Парамон Захарыч, – обращается он к дворнику.
– Кислота! – вздыхает дворник и чешет спину. – Да ты посмотри, настоящий ли офицер-то?
– Настоящий.
– Да ты посмотри. Может так куражится. Мало-ли нониче…
– Ну его! Подальше лучше. Ещё зазвизданет чего доброго. Запали-ко, Захарыч, трубочку, а я пососу. Оказия тоже здесь, беспокойство, – продолжает городовой. – Веришь, ни одной ночи доспать не могу. То ли дело, как стоял я Выборгской части во Флюговом переулке. Завалишься бывало в траву и до утра. Ей-Богу. А здесь с девяти часов «караул» кричат. Даве пошел в портерную драку разнимать, вдруг, на линии крик. Бросил драку, бегу – дачник из сто семнадцатого кричит. Выбежал на балкон в одной рубашке и орет: бомбардировки испугался. Там в саду у Кусова Ардаган брали и пальбу начали. Подхожу к нему, дрожит… «Неужто, говорит, уж подошли они к нам?» А у самого глаза дикие, предикие. Кто, говорю, подошли-то? «Да англичане». Взятие Ардагана за англичан принял. Ну, успокоил его. Так, ведь не верит. «Поди, говорит, и посмотри, не видать ли на взморье английского монитора; на то ты, говорит, и поставлен тут, чтоб обывателей охранять». Полноте, говорю, ваше степенство, уж кабы ежели подошел он к нам, то приказы по полиции были-бы, сейчас флаги на колоннах белые выставили-бы. Домашние загоняют его в дачу, а он нейдет. «И мин, говорит, около нашего дома не взрывали?». – Нет, говорю, не взрывали. «А торпеды?» – И торпед говорю, нет. «А зачем, говорит, на соседней даче миноносный шест выставили?». – Это, говорю, не шест, а скворечница? Ну, стал его срамить за беспокойное одеяние, потому снизу у него как есть ничего. Послушался. Заглянул под скамейки в саду; всё думает, нет ли кого и там, и ушел.
– Загнали значит? – спрашивает дворник и передаёт городовому трубку носогрейку.
– Загнали.
– Хорош тоже Аника воин! Пальбы комедианской испугался.
– И не говори! Вот-бы такого под турку пустить!
Городовой, кряхтя и охая, опускается на скамейку.
Вот пожилой дачник выходит в палисадник и начинает запирать замком калитку.
– Ох, – стонет он. – Ну, нечего сказать, выехал на дачку! И дёрнула меня нелегкая около этого сада нанять! Омут, чистый омут! Да здесь, от одного беспокойства сдохнешь за лето чахоткой. Говорят, вода здесь хороша, а купанье восстановляет силы, да чёрт ли в ней, в воде-то, коли ты все ночи напролет не спишь. Какая от этого польза? Вот теперь для очищения совести запираемся на замок, а зачем, спрашивается? Кто захочет, тот и через забор махнет.
Не довольствуясь запором, дачник припирает калитку колом, наваливает на кол камень и уже хочет уходить, но перед ним останавливается мужчина в соломенной шляпе.
– Позвольте вас спросить: из ворот надо входить, чтобы попасть в эту дачу? – таинственно спрашивает он.
– Ни из ворот, ни откуда нельзя незнакомым лицам входить-с, – сердито отвечает дачник, потому что здесь живут семейные люди, и вы жестоко ошибаетесь в вашем предположении…
– Знаю-с, но я знакомый, я свой, я не донесу. Ну, чего вы боитесь? Ведь в чётные числа происходят здесь сборища… Видите, мне всё известно. Вы меня, может быть, за переодетого полицейского считаете?
– Идите, сударь, своей дорогой! Срамились-бы… А ещё почтенный человек, волосы седые…
– Да полноте шутить, оставьте! Меня и Эльпидифор Экзакустодианыч Христопродаки очень хорошо знают. Я на наличные… Я бы в Новую Деревню сунулся к табачнику Тройник, да там наверняка обчистят.
– Послушай, ежели ты не уйдешь, я за городовым пошлю! – горячится дачник.
– Ты не кричи, милый, а говори спокойно. Я очень хорошо знаю, что ты обязан остерегаться полиции, но я свой. Вот тебе целковый и проведи меня, покажи, где у вас играют. Мне ненадолго, мне только часик попонтировать. Вчера ещё в благородке полушубок вычистили…
– Тьфу, ты пропасть! – плюет дачник. – Да вы что ищете-то? Что вам надо?
– Игорный дом, – перевешиваясь через калитку и наклоняясь к его уху, шепчет незнакомец.
– Это не здесь-с, здесь нет игорных домов… Здесь благородное семейство.
– Тс! Что вы кричите!
– Здесь нет игорных домов, говорю вам, и я в своей даче всегда кричать могу! Здесь, сударь, проживает честное семейство надворного советника Трезубцова, только несчастным случаем попавшее в этот мерзкий омут, а посему извольте отправляться своей дорогой!
– Но послушайте, я и пароль ваш знаю, или, как он у вас называется, девиз, что ли?.. Книжник и актер. Теперь уже всё ясно. Пусти же. Я семпелями буду понтировать: ни угол, ни шесть куш мне не везут.
Дачник взбешён до невозможности.
– Послушай, не выводи меня из терпения! А то схвачу вот этот кол, и колом начну лупцевать тебя по шляпе. Ну!?
– Извините, когда так… – пожимает плечами соломенная шляпа.
– Чёрта ли мне из твоего извинения-то? Из него шубу не сошьёшь! Иди, иди с Богом! Ну, местечко, – всплескивает руками дачник и идёт к балкону.
– Что это ты так долго? – встречает его жена. Ведь ты знаешь, что тебе надо завтра в пять часов утра вставать и пить во́ды. К тому же и я должна в шесть часов быть уже в купальне.
– Какие тут, матушка, во́ды, коли что шаг сделаешь, то безспокойство! Вон сейчас какой-то скот лез к нам в сад, уверяя, что здесь игорный дом. Да ведь как настойчиво лез-то!
– Послушай, Миша, как-же мы будем делать с окном? Ведь ещё вчера какой-то проходящий пьяный разбил стекло осколком бутылки. Сегодня я целый день ждала, не пройдет- ли стекольщик, но…
– Ложись скорей спать, родная. Что стекло? Ну, как-нибудь подушкой его заткнём. Пойдем.
Дачник берет под руку жену, но в это время с улицы летит ему в лицо брюхо вареного рака.
– Ой, что это такое? – взвизгивает он. – Послушайте, мерзавец! Разве это можно?
– Ах, пардон! Извините, пожалуйста! Я невзначай. Сделайте милость, не будьте в претензии, – доносится с улицы.
– Фу, мерзость какая! Жёванный рак. И прямо в лицо. Нужно будет умыться. Еще четверть часа от сна долой… Ну, иди, милая. В комнату, где выбито стекло, мы горничную спать положим.
Дачник скрывается в домишке, и предварительно запершись, начинает умываться. Слышен всплеск воды, фырканье. Стенные часы бьют час.
– Четыре часа только спать остается, – говорит он, гася свечку, и, залезая под одеяло, начинает дремать.
В саду слышен шорох и говор: «не здесь». – Здесь, я тебе говорю, стучи; я очень хорошо знаю. «Как клюшницу-то звать?» – Каролина Карловна. Сеня, ты ведь по-немецки маракуешь, так стучись ты.
Раздается стук в окно. Дачник вздрагивает и кричит:
– Кто там?
– Это мы. Нам нужно видеть Берту. Не черненькую Берту, а белокурую! Каролина Карловна, bшtte! Um Gottes Wшиlen! Wшr sшnd nur dreш! Нас только трое! – раздается голос.
– Никакой здесь Берты нет! Ни черной, ни красной, ни зеленой! Вы не туда попали!
– Послушай, человек! Пусти! мы тебе дадим на чай! Ну, отвори. Мы только портеру выпьем.
Дачник вскакивает с постели.
– О, это чистое наказание! – скрежещет он зубами. – Послушайте, мерзавцы вы эдакие: ежели вы сейчас не отойдете, я стрелять буду. У меня револьвер о шести зарядах. Вон!
– Миша, Миша! Успокойся! Ведь тебе вредно тревожиться, – удерживает его жена. – Ах, Боже мой! Да никак ты босиком? Разве это можно? Сейчас насморк получишь.
– О матушка, не до насморка мне! Тут белая горячка с человеком сделаться может!
Говор в саду мало-помалу утихает. Слышны удаляющиеся шаги. Дачник лезет снова под одеяло и начинает засыпать. Часы бьют два. Тихо. В соседней комнате сопит и бредит горничная. Проходит полчаса. Вдруг сильный удар в ставни потрясает ветхиё стены дома.
– Эй, Машка, отворяй скорей! Первая гильдия приехала! – раздается за окном бас. – И чего вы черти полосатые, спозаранку запираетесь? Туда же и калитку приперли! Знаешь, что наше степенство через забор лазать не любит, а ты приневоливаешь! Ну! разнесу!
Второй удар. С потолка сыплется штукатурка, песок. Дачник опять вскакивает.
– Нет здесь Машки! – орет он. – Вон, дьяволы! Вон анафемы проклятые!
– Слышь, ты не горячись! Может она у вас за Амалию нынче ходит, так нам все едино – идет перекличка. – Отворяй миром! В накладе не будешь! Мы не турки! Расплачиваемся наличными! Купцы приехали, а не голь стрюцкая! Отворачивай, Митряй, ставню-то!
Ставни потрясаются. Скрипят петли. Дачник прибегает к ласке.
– Послушайте, почтенные! – вопит он. – Вы попали в семейный дом! Не доводите до скандала! Ну, что за радость, ежели я пошлю за полицией и составят протокол. Посадят; ей-ей, посадят.
Просьба действует. Бомбардировка умолкает. Слышна перебранка и возглас: «вот как хвачу по затылку!»
– Семейный человек, откликнитесь еще раз, – раздается уже сдержанный голос. – Где здесь эта самая Марья Богдановна проживает? Укажи, будь любезен, я те фуляровый платок на память пожертвую!
– Не знаю я, милые мои, не знаю. Я не здешний, я вчера только приехал. Идите с Богом!
– Ну, прощенья просим; спи спокойно! А что мы ставень оборвали, то приходи ко мне в железную лавку, – пуда гвоздей не пожалею. Да ну ее, эту Машку! Идем, ребята, в Немецкий клуб.
Дачник уже не стонет, а только скрежещет зубами от ярости и лезет на кровать. Его бьет лихорадка, голова горит, руки и ноги трясутся.
– Спи, Миша, скорей, сейчас три часа. В пять вставать. Торопись, голубчик.
– О, матушка, матушка! Какой тут сон! Я совсем болен! – вырывается у него из груди вопль.
В смежной комнате раздаётся пронзительный крик горничной. Дачник снова как горохом скатывается с постели и выбегает из спальни.
– Лезут, лезут! – кричит горничная, и, кутаясь в одеяло, жмется к стене.
В разбитое стекло видна стриженая голова татарина во фраке и с номером в петлице.
– С ресторан, господин, с татарска ресторан письмо. Ласкова барыня, Марта Карловна; за ней офицер коляска прислал! – отчеканивает гортанным голосом лакей.
– Катерина! Тащи сюда ухват, кочергу, метлу! Я голову размозжу этому свиному уху! – орёт во все горло дачник, хватает палку, замахивается и бьёт второе стекло в окне.
Звон. Татарин бежит. Дачник хватает со стола графин и кидает ему в след.
– Боже мой, Боже мой! И это дача, куда ездят успокоиться! – раздаются вопли мужа и жены.
VII. Волынкина Деревня
За Екатерингофом, на взморье, лежит Волынкина Деревня. О существовании этого дачного места знают очень немногие петербуржцы. Фланеры, утрамбовывающие дорожки увеселительных садов, топчущиеся на танцевальных вечерах летних помещений клубов, Лесного театра и Безбородкинского вокзала, сюда вовсе не заглядывают; ибо здесь нет даже и простого сада, не говоря уже об увеселительном, а танцы, ежели и происходят подчас, то только у кабака, под звуки гармонии и балалайки. Из дирижёров оркестра ни один Шульц не покусился ещё устроить здесь музыкально-танцевального вечера и заставить платить себе полтинники, ни один, даже самый неразборчивый актёр, не побрезговавший бы даже собачьей будкой для устройства спектаклей, не решился ещё покормить здешних дачников какими-нибудь «Париками», «Фофочкой» или «Мотей». А актеров среди дачников здесь изобилие, и разнообразными талантами их Бог не изобидел. Есть певцы, обладающие таким зычным голосом, что ежели крикнут на берегу взморья, то их будет слышно в Кронштадте. На сцене их, по некоторым причинам, избегают.
– Я, братец, раз так крикнул в «Пророке», что семь ламп по рампе погасло и в царской ложе на стенниках розетки лопнули, – разсказывал мне один оперный певец. – Одного вот пьянисимо нет у меня в голосе.
– Зато, в голове часто бывает пьянисимо, – заметил ему один купец, театральный прихвостень, обязанность которого состояла поить певца, давать ему деньги взаймы и позволять себя обыгрывать на биллиарде.
Певец нахмурил чело и сжал кулаки.
– Ты, Митрофан, не шути, коли я говорю серьезно! – отвечал он. – Знаешь, что я этого не люблю. Я у тебя в железных лавках в заклёпках не роюсь, не ройся и ты в моей лавочке.
Есть здесь и трагики, последние из могикан, трагики, которых когда-то в провинции на руках носили их почитатели, поили до белой горячки. В былое время они верили, что не пьющий трагик не мыслим. Они вели суровый образ жизни, никогда не улыбались, были мрачны, смеялись только «замогильным» хохотом, ели сырое мясо, и с полуштофом в руках ходили учить свои роли на могилы самоубийц, а где таковых нет, то просто на городские кладбища. Блистав когда-то в провинции, а ныне заручившись третьестепенными местами в казённой труппе, они не утратили еще своего молодечества. Есть и казенные актеры от «ногтей юности», выпущенные из театрального училища, как значится в их аттестатах, на роли злодеев и драбантов. Как трагики, так и драбанты отличаются необыкновенным молодечеством. Они, не задумываясь, подымут быка, взяв его руками под пах, свернут вензель из кочерги, перекрестятся двухпудовой гирей и вывернут с корнем фонарный столб. Есть здесь и балетные танцоры, возненавидевшие танцы, танцоры, удалённые из балета вследствие того, что они утратили элевацию, потеряли «стальной носок», и приобретя чугунную пятку, успели отдавить двум трем балеринам ноги. Есть здесь купцы, хороводящиеся с актерами и идущие по пути к разорению, купцы, которым остался один шаг – связаться с монахами, и после сего, уже в конце обнищавшими ехать на Валаам на покаяние. Есть здесь нотариусы, отставные ярморочные шулера, утратившие гибкость пальцев, музыканты, игравшие когда-то на тромбонах и контрабасах, заводчики, успевшие уже нажить себе состояние, и даже поп, охотник до рыбной ловли. Все это переселяется на лето в Волынкину Деревню, ради охоты, во всех её видах, начиная с домашней утки и кончая медведем. Дачники поголовно охотники. Поселение Волынкиной Деревни необширно: несколько домиков, кабак и кое-что вроде трактира с мелочной лавкой. Патриархальность нравов необычайная, доходящая до дикости. Дачники живут на бивуаках. Об украшении палисадников нет и помину. Вместо цветов, в куртинах расставлены собачьи чашки с овсянкой и водой, в которой плавает кусок серы, банки с червями для уженья рыбы, корзинки с пахучим стервом для ловли раков. Вместо штор окна занавешены штанами, жениными юбками. Убранство комнат состоит из удочек, неводов, арапника, собачьих цепей и смычек. На подоконниках – бутылки, банки с сапожной мазью, охотничьи фляжки, пузырки со средствами от комаров и блох, которыми они вместо духов смазывают и себя, и своих многочисленных собак. Посмотрим на их житьё-бытьё. Заглянем в их праздничный день.
Вот утро. В одном из палисадников бродит дачник и налаживает перепелины дудки, подбирая тоны. Он без шляпы и в одном нижнем белье. В соседнем палисаднике молодая дама вывешивает для просушки простыню, стараясь прикрепить её на подсолнухи.
– Марье Ивановне почтение! Слышали, как мы вчера торпеду взрывали на взморье? – кричит он. – Три старых сваи нужно было выворотить. Здравствуйте.
Дачник подходит к границе своих владений и протягивает руку через рубеж. Марья Ивановна делает то же самое, но тотчас же вскрикивает и отворачивается.
– Что с вами? – удивляется дачник. – Наткнулись на рожён, что ли?
– Нет, так… я не одета, – бормочет она, косясь на костюм соседа.
– Да и я не одет. Помилуйте, что за церемония на даче! Здесь у нас попросту. Я и сам в рубахе.
– Вот поэтому-то и неловко! Накиньте на себя что-нибудь.
– Да помилуйте, зачем же? Бельё на мне чистое. Ведь от красной рубахи вы-бы не отвернулись, а тут вдруг… Ну, хорошо, хорошо, я за куст встану. Мужнины пеленки развешиваете? – задает он вопрос.
– Да, сейчас только вернулся с купанья и как сноп растянулся. Ведь он натирается.
– Чем нынче натирался, дресвой?
– Нет, пока ещё всё песком трется. Сразу нельзя, можно всю кожу содрать. Потом на толченый кирпич перейдет, а с кирпича уж на дресву, да вот, что-то всё плохо помогает; спина у него…