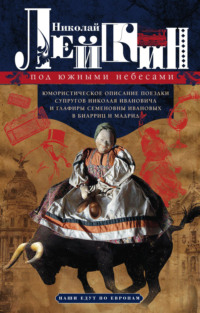полная версия
полная версияНеунывающие россияне
– И что это здесь за водка, словно водой разбавлена, – говорит он. – Мне Чижиков вчера разсказывал, что у военных людей вышла новая мода эту самую водку торпедной начинкой настаивать, глицерином то есть. Такая, говорит, крепость, что страсть! Хорошо бы вот с антиллеристом каким-нибудь познакомиться, да попросить у него полфунтика глицерину-то.
– Ну, вот! Нужно очень у чужих людей побираться, коли можно этого самого глицерину, сколько хочешь, в аптеке достать. Ужо пошли Мавру. Да как посылать будешь, так скажи, пусть она мне какого ни на есть снадобья для сна купить, а то целый день спишь и белого свету не видишь. Оно-бы и ничего, да сны страшные. Как заведу глаза, так и вижу что будто бы я монитор, и под меня торпеду подводят. Опять же от сна и не ешь ничего. Вот глазами-то бы и съела что нибудь, а утробой не могу.
– Оттого и не можешь, что, поди, зоб-то свой раза три уже сегодня разными разностями набила.
– Позавидовал уж! Ан вовсе и не набивала! Щец, действительно, за завтраком вчерашних похлебала, пирожка позоблила маленько, кашки манной, ну – а потом чай стали пить, так саечку с вареньем съела. Хорошие у нас такие сайки здесь на Муринском. Да вот сейчас на балконе, перед тем как заснуть, баранок вязочку сгрызла. Ах, как вы это попрекать любите! Небось, я вам ничего не говорю, когда у вас этот самый апетит от пьянства пропадает. Помнишь, когда, во время славянского сочувствия, вы этот самый народ в доброволию провожали, так ты две недели ничего не ел и только одним пьянством питался.
– Так ведь то славянское сочувствие. Все свою повинность несли. Опять же с нами черногорец один путался, так должны же были мы его, как следует… Ведь, брат славянин.
– Ну, уж ты мне зубы-то не заговаривай насчет братьев! Приедет турок пленный, – ты и с ним будешь пить.
– С пленным турком из человеколюбия, потому завсегда нужно показать, что мы не варвары. Однако, довольно! От этих глупых прениев у меня только апетит пропадает.
– Ну, а потом-то зачем пили, когда эта самая доброволия назад вернулась? – продолжает жена.
– Тоже из сочувствия. Слушали их зверские разсказы про турок, их подчивали, и сами чокались.
– Мы тоже-бы могли это самое винное сочувствие делать, однако, не делали. У нас вон и по сейчас по Лесному болгарок пруд пруди. Ходят по дачам и насчет турецкого насилия, которое с ними было сопряжено, рассказывают. Тоже есть что послушать; а поговоришь с ними через запертую калитку, распросишь, как дело было, молодые или старые эти турки, подашь копеечку, да и довольно. Тут даже иго турецкое по дачам носили, однако, мы не шли же на него смотреть, коли это к нам не прикасается. Просила я одну болгарку развернуть тряпку и сквозь забор его показать, та не хотела, ну, и не надо.
– Вы, Марья Ивановна, в себе и замечания не содержите, что вы заврались. Кабы вы в вашем просвещении имели поболее образования, то взаместо того, чтобы читать Огненных Женщин, скорей-бы в газеты заглядывали и тогда знали бы, что иго это самое в тряпках носить нельзя, потому что его на четырех лошадях возят, так как оно из железа сделано, и в нем триста пудов.
– Ну вот! Фелицата Герасимовна ещё вчера себе за двугривенный кусок у болгарки купила. Говорят, оно от зубов помогает.
– В невежестве, конечно, всякая медицина в ход идет, но образованный человек должен только лекарствами лечиться. Да и надула твою Фелицату Герасимовну эта болгарка и вместо ига кусок какой-нибудь дряни продала.
– И вовсе даже не дрянь, а с благоуханием. Мавра видела: как бы смола, говорит, или сапожный вар.
– А я тебе говорю, что этого быть не может. По газетам, иго это теперь в Москве вместе с пленными турками находится, так как телеграмма пришла. Если бы не измена у турок, его бы и не отбили. Московское купечество не тебе чета, просило себе махонький кусочек от него отшибить, да и ему не дали. Казаки охраняют. Засим довольно и молчи! Киселя я не хочу и лягу спать, а к девяти часам поставь самовар. Где газета?
– Как-же, Михайло Прохорыч, ты обещался после обеда в Беклешов сад гулять идти?
– А вот спервоначалу посплю, потом попью чайку, и тогда можно.
– Ну, уж, знаю я это гулянье! Разоспишься, так тебя тогда хоть поленом по брюху бей, ты и то не встанешь. А ещё хотел соловья слушать!
– И соловья, и кукушку послушаем. На всё будет время. А теперь дай мне газету. Нынче, кто хочет содержать себя в современности, даже обязан про всё известия знать. Сойдутся двое, и первый разговор – телеграммы. Давеча, вон, в трактире толковали, что взаместо папы теперь римская курия сидит, и это будто у неё ребенок есть от папы, которого она на престол прочит.
– Очень тебе нужно знать! Для тебя что папа, что курия – один интерес.
– Совсем даже напротив того, так как через это шелк вздорожать может. За сим извольте пришить ваш язык и молчать.
Супруг удаляется и ложится на диван. Слышен шелест газеты. Супруга, оставшись одна, начинает всхлипывать.
– Маша! Марья Иванова! поди сюда! – раздается через несколько времени голос супруга.
– Оставьте меня, пожалуйста, лежите там с вашей курией на диване, коли вы её на жену променять хотите.
– Ну, поди же, дура! Я тебе телеграммы почитаю. Вон во Франции правая сторона потерпела поражение от левой. Полно сердиться, не будь левой стороной.
– Плевать я хотела на вашу левую и правую сторону!
– Да брось! Разскажи-ка мне, что тебе болгарка про турецкое насилие разсказывала…
– Ах, оставьте пожалуйста! Пусть лучите я слезами истеку, а уж властвовать над собой не позволю. Я не болгарка.
– Ну, иди, моя рыхленькая, иди, моя полненькая, иди миром. Не верблюда же мне за тобой посылать.
Жена улыбается сквозь слезы и направляется к мужу. Пауза.
– И соловья послушаем? – слышится её вопрос.
– И соловья. Соловьи только ведь, по ночам и поют.
– И кукушку?
– Не токма что кукушку, а даже дятла, если хочешь.
– В таком разе, помиримся.
Мир возстановляется поцелуем.
II. Черная Речка
Утро. Десять часов. На Черной речке все обстоит благополучно. Мутные воды её издают запах, не имеющий ничего общего с одеколоном. Скрипят блоки парома, перевозящего чиновников с портфелями, купцов, спешащих пробраться, по тенистым дорожкам Строгонова сада до вагонов конно-железной дороги. На балконах дач виднеются остывшие самовары. Мужская половина дачников отправилась в город, остались только женщины. Вот известная всем подполковница Ия Патрикевна сидела, сидела, за кофейником, зевала, зевала во весь рот, и, наконец, встала, направившись в комнаты.
– Одры вы несчастные! Да встанете ли вы, наконец? – кричит она все еще спящим дочерям. – Вот наградил Бог дочьками! «Наймите, говорят, маменька, нам дачу, так мы живо себе женихов найдем, потому на легком воздухе мужчины чувствительнее!» Ну, вот, теперь и ищут до двенадцатого часа, уткнув свои носы в подушки! Ах вы, клячи. Жаль, что Щапин обанкрутился, а то бы уж продала ему вас для дилижансов! Важная-бы тройка вышла из вас моих единоутробных. Да, что вы, оглохли, что ли?
– Где оглохнуть! Слышим, что маменькой запахло! – откликается сонный голос. – Вы лоб-то до ругани перекрестили ли? Ведь вам брань эта самая всё равно, что бутерброд к чаю.
– Огрызайся, огрызайся! Чем бы с добрым утром поздравить, а она, на, поди! Нет, чтобы мать пожалеть, что она целый час для своих дочек за самоваром дежурит.
– Вы, я думаю, во время дежурства то этого, чашек семь в себя кофею влили! Нечего было дежурить! Мы и второй самовар поставим, да кофейных переварок напьемся.
В комнате слышно громыханье юбок, шлепанье туфлей. Через десять минут три дочки выходят на балкон. Начинается опять перебранка.
– Выплыли! Слава тебе, Господи! Не выставляйте хоть рож-то ваших полосатых на улицу. Ворон вами пугать на огороде, а не женихов приманивать? Ну, садитесь затылками к тротуарам-то. Петр Иваныч ещё не проходил. Лизавета, тебе говорят?
– Петр Иваныч не за мной ухаживает, а за Леной, – откликается младшая дочь. – Вы ведь сами знаете, что ко мне конюшенный офицер неравнодушен. Лена, надень в самом деле шинион, не хорошо: хоть и затылком сидишь, а все проплешина видна и, вместо косы крысиный хвост.
– Петр Иваныч с благородными чувствами, и на мне, а не на шинионе женится. К тому же он близорук, и даже ещё третьяго дня, в Строгоновом саду одного дьякона за меня, по ошибке, принял. Через это самое даже история вышла, так что он боится в газету попасть.
Начинается разливание кофею.
– Что ж вы материнским-то великодушием хвастались? От кофею одна гуща осталась.
– Да вы и этого-то не стоите! На живодёрню вас, так и там никто за вас гроша не даст. Лошадь, так у той хоть кожа, а у вас что? Ну, что Петр Иваныч?
– Да ничего. Вчера гуляли по саду. Вздыхал он, говорит, что ему холостая жизнь надоела. Погодите, будет мой. Нельзя же вдруг… А то упорно поведёшь атаку, он и испугается.
– Письмо любовное ему писала?
– Я вам говорю, что письмом все дело испортить сразу можно. Нужно исподволь. Помните, в четвертом году, флотского офицера: как получил письмо, сейчас впал в сомнение и исчез.
– Так что-же это ты с Петром Иванычем до второго часа ночи в Строгоновом саду делала?
– Гуляли, потом сели на скамейку; началась легкая перестрелка глазами. Ну, я взяла у него из рук палку, и будто невзначай, начертила на песке его и свой вензель под одной короной: «Е. и П.».
– Ну, а он что?
– Он тоже вынул из кармана перочинный ножик и стал вырезать на скамейке буквы, но вместо «Е», у него вышло какое-то «С».
– Морочит он тебя, дуру, а ты веришь, – вставляет слово средняя сестра. – Нарочно! Ведь, он за Серафимой Семеновной ухаживает, вот за этой брюнеткой, что всё на лыжах по речке ездит, да только там ему карету подали.
– Пожалуйста, не обмишуртесь сами! Будто я не видала, что он букву «Е» выводил, а, по ошибке, «С» вышел. Вы на себя-то оглянитесь. Вы вот полагаете, что Генадий Васильевич для вас мимо наших окон ходит, а он это для горничной Дашки делает, что у протопопа живет.
– Заспорили! – перебивает их мать. – Погодите, всех по порядку допрошу. Ну, Еленка, смотри! Ежели ты у меня нынешним летом за какого-нибудь лешего замуж не выскочишь, – собственноручно тебя отравлю. Возьму и подсыплю тебе буры в кофей.
– Вас же в Сибирь и сошлют, а я права останусь. Нельзя же, маменька, сразу, тяп-ляп, да и клетка.
– А я, небось, сразу свои последние золотые часишки к жиду в залог снесла, да за дачу задаток отдала; сразу пенсионную книжку вам одрам на платья летние у ростовщика завязи́ла? Ты мне зубы-то не заговаривай, а ты только, так или иначе, вызови Петра Иваныча на любовную переписку, добудешь от него цедулку с признанием, – значит, он наш: пожалуйте, мол, честью под венец, а нет, мы к мировому, потому невинную благородного звания девушку конфузить нельзя, кругом огласка… Ну, а ты, Лизавета, насколько с своим конюшенным подвинулась?
– Да он, маменька, какой-то неповоротливый. Я его в темную аллею завлекаю, а он говорит, что лягушек боится, – отвечает средняя дочь.
– Нечего сказать, хорош воин, который лягушек боится! – язвит старшая. – Офицеры на Дунае напротив мониторов идут, а он от лягушки бежит.
– Оставьте, пожалуйста! Конюшенные офицеры вовсе даже не для войны. Они лошадей артикулу обучают.
– Оставьте, пожалуйста, ваши споры! – снова обрывает мать. – Муж, который лягушек боится, ещё прочнее. Плохо дело, кто ничего не боится, того уж в руки не возьмешь. Ну, что-же дальше-то было? Ты его влекла в аллею темную, и он не пошёл. Потом-то что?
– Потом, купил мне на горке в ресторане палку шоколаду, а сам выпил две бутылки пива, потом сели мы на скамейку, и я начала вздыхать.
– А он что? Сделался ли он хоть с пива-то чувствительнее?
– Нет, маменька, его надо оставить и за другого приняться. Я уже наметила тут одного чиновника в белой соломенной шляпе. С пива офицер этот сделался действительно как будто чувствительнее, но сейчас заговорил о лошадинном браке, да о лошадях.
– Ну, Лизка, уж ежели ты такого вахлака опутать не сумеешь, то так век тебе в девках и сидеть. Была выдрой, выдрой и останется! Да будь я на твоем месте, я не только-бы его, а и всех бракованных лошадей этих в две недели к рукам прибрала. Пиши ему сейчас любовное письмо, возьми у Нади листок розовой бумаги с голубком и пиши! Я сама диктовать буду.
– Я вам, говорю, что его любовными чувствами не проберешь. Тут что-нибудь другое надо. Он все о ботвинье с лососиной поминал. Вот, ежели-бы его обедать на ботвинью позвать…
– Из каких доходов, матушка? Лососина полтина фунт. Не ложки же мне серебряные закладывать. Да, наконец, чем он тогда хлебать будет? Ведь деревянную ему не подашь.
– Ах, маменька, где нужно решительность, там можно и шаль по боку. Кроме того, у нас шубки есть.
– Свой салоп я давно заложила, за вашу же молеедину никто и на лососину не даст.
– Уж не на нас ли, скажете, и шуба-то пошла? – дразнит младшая дочь. – Мы тоже знаем, что, заложив её, вы все деньги в два вечера в Благородке в мушку проиграли.
Подполковница всплескивает руками.
– Ах, идолка ты, идолка! Ещё туда-же, мать попрекать вздумала! – кричит она. – Кому я проиграла? кому? Разве не тому самому армянину, который с тобой танцуя, весь тебе хвост у платья сапожищами оборвал и всю талию руками захватал и изцарапал. Ведь думала, что прок выйдет. Сама же ты мне разсказывала, что он тебе в кадрили на ухо шептал, что он блондинок лучше любит чем брюнеток и что ежели женится, то непременно на благородной русской девушке. А бирюзовое кольцо, что он тебе подарил, так уж ничего и не значит?
– Так ведь вы его на другой же день у меня и отняли. Оно в дело пошло. Мы им для Лизы телеграфиста обедами прикармливали. Насчет меня, маменька, вы не беспокойтесь. У меня всякие залоги любви от одного кавалера есть: и письма любовные, и сувениры из волос, и даже медалион, а от кого – это секрет. Одно скажу: ожидайте на днях моего похищения, потому я объявила, что меня так, по благородству моего папаши и по смольному воспитанию, не выдадут. Я своему жениху такие турусы подпустила, что он сомлел даже. Один день сказала, что за мной тридцать внутренних билетов в приданое, другой день – что деревня в Новгородской губернии.
– Ох, дай-то Господи! Твоими-бы устами да мед пить! – заключает мать.
В комнатах, между тем, слышен говор. Мужской говор перемешивается с женским.
– Марья, что там? – вопрошает подполковница.
– Сударыня, вас дворник спрашивает, – отвечает кухарка.
– Скажи ему, что меня нельзя сегодня видеть.
– Как-же это так нельзя видеть, коли я вижу, – басит дворник. – Хозяин за деньгами прислал. Пожалуйте, за дачу. За двенадцать рублей задатка два месяца жить нельзя! Ведь вас в апреле ещё к нам принесло. Снег подтаивать только начал.
– Ты, милый, во-первых, не груби! А, во-вторых, не лезь на балкон. Ты мужик, и твое место на подъезде. Деньги ты получишь завтра. А насчет грубостей твоих – с тобой генерал поговорит. К нам сегодня генерал обедать приедет.
– Ты деньги отдай! Нам генералы-то не больно страшны. У нас и съёмщик на вашу дачу есть. Если сегодня честью не отдашь, завтра же к мировому, и с полицией тебя по шеям.
– Вон, мерзавец!
– Поругайся, поругайся ещё! А еще подполковница! Эх, а ещё господа! – говорит дворник и уходит.
Пауза.
– Ну, что вы на это скажете? – разводит мать руками – Выдры! клячи! идолы! Ну, ведите меня самою на живодерню! Авось хоть за меня кто ни-на-есть что-нибудь даст.
Дочери плачут.
III. Новая Деревня
Утро. Десятый час. Новая Деревня. На всевозможные лады зазывают разносчики, выкрикивая названия товаров. Гудят басы угольщиков, стонут тенора рыбаков, поют контральты мальчишек-курятников, с огурцами и раками и покрываются звонкими дискантами баб-селёдочниц. В портерных уже пьют, не взирая на ранний ещё час; в биллиардных щёлкают шары. В одной из дач на Первой линии выходит на балкон дачник в халате, озирается кругом и видит лежащий на дорожке сапог со шпорой. Дачник недоумевает, спускается с балкона, пихает его ногой слегка и наконец, поднимает.
– Надя! Надежда Семеновна! – кричит он. – Откуда у нас взялся в саду этот сапог?
– Неужто в саду? Ах, мерзкая! Да это, видно, наша Балетка затащила, – отвечает из комнаты сидящая за самоваром жена. – Впрочем, ты сам виноват, Николай Анисимович. Начнешь раздеваться и разбрасываешь, куда ни попало, свои доспехи. Вчера искал свой чулок, ругался, ругался, а он преспокойным манером висит себе на лампе.
– Ты мне зубы-то не заговаривай, а отвечай, чей это сапог? – уже повышает тон муж.
– Как чей! Само собой, твой.
– Пожалуйста, не смеши. Ты очень хорошо знаешь, что чиновникам духовного ведомства сапогов со шпорами не полагается, значит, этот сапог никак не может быть моим.
– Со шпорой? Не может быть!
– Извольте полюбопытствовать. Даже можете понюхать, ежели желаете.
Муж вносит в комнату сапог и ставит его на стол рядом с чашкою чаю. Жена выпучивает в недоумении глаза.
– Ей-Богу, не знаю, чей это сапог и откуда он взялся, – бормочет она. – Да, может, ты пошутить вздумал и прикрепил к нему шпору, делает она догадку.
– Мне, сударыня, шутить некогда. Мне впору только зарабатывать деньги и исполнять прихоти супруги, заводящей разные шуры-муры с господами военными. Я вас в последний раз спрашиваю: чей это сапог?
– Ах, Боже мой! Да не знает ли наша кухарка? К ней разные солдаты со всех сторон лезут. Настасья! поди сюда! Чей это сапог со шпорой у нас в саду барин нашел? Ну, отвечай! не запирайся, а то через тебя только неприятности. Мало-ли к тебе разных кумовьёв ходит.
– Не знаю, сударыня. А что до кумовьев, то ко мне только дяденька пожарный и ходит, так они без шпор. И я вам вот что скажу – этот сапог офицерский.
– Извольте видеть, простая женщина и та вам нос утирает, – язвительно замечает муж жене. – Ну, пошла вон! – кричит он кухарке и всплескивает руками. – Ах, Боже мой! Боже мой! И после этого вы смеете роптать, зачем я вас перевёз в Новую Деревню на дачу, где вы иногда невзначай увидите двух-трех девиц лёгкого поведения, курящих папиросы! Вы сами, сударыня, такая! О, теперь я очень хорошо понимаю, что значат все эти стуки к нам по ночам разной пьяной компании, которая спрашивает то Надьку, то какую-то Надежду Карловну! Сначала я думал, что к нам лезут по ошибке, но теперь мне всё ясно.
– Да как ты смеешь! – кричит она и сжимает кулаки.
– Довольно! не горячитесь, – останавливает её муж. – Прелестно! Дальше идти нельзя. Из надворной советницы в штабс-офицерских чинах Надежды Семеновны вдруг превратиться в Надежду Карловну и даже хуже – в какую-то Надьку!
– О, это уже из рук вон! Так я себя оскорблять не позволю! Ах, ты мерзавец! Так на же!.. – и сапог летит в надворного советника, но жена не довольствуется этим и хватает со стола полоскательную чашку с помоями, чтобы выплеснуть ему в лицо.
Муж выбегает на балкон; она за ним.
– Послушай, не выводи меня из терпения! иначе сам забуду, что передо мной женщина! – кричит он, в свою очередь, и вырывает из земли кол. – Только смей! только смей плеснуть!
– Ах ты бесстыдник! бесстыдник! Рук-то марать о тебя не стоит. Сам-то ты чёрен, как голенище вот этого сапога, что ты нашел, оттого ты черно и про других думаешь. Ведь с тобой вместе по Первой линии прогуляться вечером нельзя. Бабёнки эти подлые так и лезут к тебе: то папироску закурить, то спичку требуют. Срам! Вчера вдруг одна называет тебя по имени и просит рубль на память.
– Важная вещь. Стоит придавать этому значение! Хмельная женщина услыхала, что ты меня называешь по имени, я повторяет за тобой то же самое. Наконец, я не дошеёл ещё до той наглости, чтобы у меня мужчины свои сапоги со шпорами оставляли! Тьфу! какая мерзость!
Жена взбешена.
– Ты опять! Еще одно слово, и эта чашка вместе с помоями полетит тебе в голову! – вопит она.
– А ну-ко, попробуй! – подбоченивается муж.
– И попробую! только пикни, только произнеси ещё оскорбление!
На крик у палисадника останавливаются проходящие. Кто-то с биллиардным кием в руке заглядывает через забор из соседней дачи, где помещается трактир, и кричит:
– Хорошенько её! Давни, как следовает, по-настоящему! Только колом ни Боже мой! синяки оставишь! Возьми её в подмикитки, да о землю! С бабой первое дело – вали её затылком кверху, а то глаза выцарапает.
У палисадника тоже идут толки.
– Нет, кабы он её прижал к стене-то этим колом, тогда тут её и взнуздывай как хочешь, – говорит мясник из соседской лавки, преспокойно убрав руки под замаранный в крови передник. – А теперь шабаш! У нас вон рядом сапожник живет, так тот как хватит жену сразу колодкой, ну и усмирит, а нет, сейчас она ухватом вооружится, и тогда аминь.
– Позвольте, зачем же и колодкой? По-нынешнему, это даже лишнее, коли есть более мягкие предметы, например, хлыст, ремень, – вмешивается в разговор остановившийся гребенщик. – Супругу эти самые вещи никогда при себе не мешает иметь. Или, за неимением, стащи с ног сапог и лупи её голенищей.
– Послушайте, что здесь смотрят? что за проишествие? – спрашивает отправляющийся в город дачник, в соломенной шляпе и портфелем в руках.
– Да вот, господин жену учит.
– Кака жена! откуда? Так подстега. С воздахтаршей живет.
– Нет-с, это подлинно жена ихняя, – поясняет булочник с корзиной за плечами. – Мы, ведь, тут всех знаем, потому булочники, и так как всё больше на книжку у нас забирают. Это господин Купоросов, чиновник он, а это их супруга настоящая.
– Знаю, знаю Купоросова. И сильно он её бил? – спрашивает соломенная шляпа. – Вот скотина-то!
– Где сильно! раз пяток заушил, да и все. Даже и крови не вышиб, – отвечает мясник.
– Ах, бедная! Ведь она молодая женщина, хорошенькая.
– Бедная! А она зачем Бога забыла? Без вины, сударь, муж стегать не станет.
– Какое без вины! – взвизгивает горничная в туго-накрахмаленном ситцевом платье. – Муж на службу, а она в Строганов сад. С актером каким-то снюхалась. Три раза он её ловил и всё молчал, ну, а вчера, как привела она его к себе, ну, тут он и не стерпел.
Толки и пересуды идут всё сильнее и сильнее, и так как перебранка между мужем и женой продолжается на балконе, то некоторые любопытные зрители лезут уже в сад. Супруги замечают это, наконец, и начинают приходить, в себя.
– Ах, срам какой! Ну смотри на милость, что мы наделали! Мы зрелище вокруг себя собрали. Да уйди ты, скройся, уткни нос в подушку и плачь, плачь о своем позоре! – произносит муж. – Вы зачем лезете в чужой сад? Вам чего надо? – кричит он на вошедших в калитку посторонних зрителей и хватает какого-то официанта во фраке и белом жилете за шиворот.
– Ты, брат, не очень… Я, ведь, не жена. Я и сдачи дам, – замахивается тот на него.
– Вон отсюда! Или я сейчас пошлю за полицией, и вас свяжут, как воров!
– Смотри, самого чтоб не связали за драку. Ноне тоже рукам воли давать не велено, – ворчат зрители и удаляются из сада.
– Здравствуйте, Купоросов! Что у вас тут за происшествие? – окликает разъяренного мужа соломенная шляпа. – Представьте, мне вдруг разсказывают, что вы жену били.
Муж опешил и начинает запахивать халат.
– Нет, что вы! Как возможно! помилуйте.
– То-то. В наш век такия неистовства могут совершать только турки. Но зачем же у вас палка?
– А вот видите ли… Тут забежала к нам в сад собака, и как говорят, бешеная, ну, мы и вооружились: я колом, а жена чашкой с кипятком, чтобы её ошпарить.
– Да, уж и не говорите! Удивительно безпокойное здесь житье в Новой Деревне. То собака бешенная, то кто-нибудь ночью ворвется в ваш дом и спрашивает какую-то Марту или Берту. Шум, крик. Вчера, вон у меня соседа, статского советника, даже исколотили, конечно, по ошибке исколотили. Идет он по Первой линии, вдруг выскакивают лакеи из трактира, валят его с ног и начинают его тузить и приговаривать: «будешь вперед шары с биллиярда воровать, мерзавец!» Увидав свою ошибку, они извинились; но что толку в извинении, когда они успели поставить ему синяк под глазом, и в довершение всего, ссадили нос, так что он и очки надеть не может.
– Да, это неприятная история… – пробует улыбнуться муж.
– И каждый день, каждый день какое-нибудь приключение, – продолжает соломенная шляпа. – Знал-бы, ни за-что-бы не переехал в Новую Деревню. Одно хорошо – вода близко, а я страстный охотник удить рыбу и раков. Даже и сегодня всю ночь под мостом у свай просидел и только к утру явился домой. Откровенно вам говорю: жену боишься одну дома оставить, потому посторонние люди в дома врываются. Через две дачи от нас немец живет, конторщик он. Ушли это они третьяго дня в Ливадию; возвращаются домой, смотрят, дверь отперта, кухарка пьяна и пляшет на дворе с кондукторами казачка под гармонию, а на их двухспальной постеле спит какой-то купец. Гонят его вон – пьян и не идет. «Я, говорит, к Берте Кондратьевне пришел». Однако прощайте! В город пора! Вы разве не едете в должность?