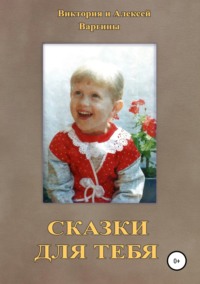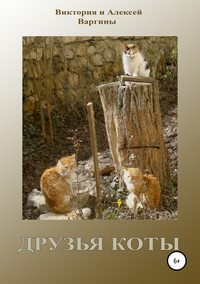Полная версия
Солнечная тропа
– Нету. Картошка варёная есть, морковь…
– Гм-м, – озадачился Акимыч, – мне вообще-то на свёкле показывали… Ну, ладно, подавай свою морковь, поглядим.
Нужная вещь походила не то на нож, не то на штопор. Ею дед Фёдор решительно вбурился в морковку, и та лентой зазмеилась из-под его рук, а лента сама свернулась на столе в оранжевые розочки.
– Видали?! – радостно воскликнул Акимыч, а Лёнька даже перестал есть землянику.
– Вот это да!
Бабушка Тоня как следует осмотрела дедово искусство и тоже осталась довольна.
– А Пелагее-то купил? – поинтересовалась она.
Акимыч положил розочку себе на ладонь:
– Не… Моя старуха не поймёт. Ей надо, чтоб большой кусок рот радовал. Красотой её не накормишь. Зато ты, Ивановна, будешь как в ресторане готовить.
– Да кому мне готовить-то? Вот разве ему пока, – бабушка посмотрела на Лёньку с лёгкой, не понятной мальчику грустинкой. – А сам-то ты, Федя, не проголодался с дороги? Садись-ка вот, чайку сообразим. А что кум твой? Здоров ли?
Акимыч крякнул неопределённо:
– Нельзя сказать, чтоб хворал, а из дому три дня уже не выходит.
– Это как же? – изумилась бабушка.
– А сраму боится, – ответил дед, отводя глаза в сторону.
– Ой, лихо! – испугалась бабушка. – Да что стряслось-то?
Акимыч понял, что про кума придётся рассказывать всё без утайки.
– Ну так чего, – начал он, – зашёл в субботу сосед к куму моему с утречка. Кума в магазине была, они и решили пока медовухой побаловаться. Сидят себе, калякают, то да сё… Сосед и жалуется куму, мол, старые мы уже стали, того и гляди помрём, никто и не вспомнит про нас, и не пожалеет. А кум ему отвечает: да откудова тебе знать, что об нас после смерти скажут? А может, коли я помру, так светопреставление начнётся, всё Раменье в голос завоет? Хе, говорит сосед, чего ж ему выть по тебе, какой ты такой герой-чапаевец? Помер, скажут, Степан, толку от него, правда, не было никакого, ну да уж пускай себе лежит. Ах так, озлился кум, а ну давай проверим, чего они скажут, подымайся! Сосед струхнул да на попятную: брось, просит, Степан, ты что это надумал? А кум уже из-за стола вылез: идём, кричит, да не бойсь, я себя не порешу, я по-умному сделаю…
Кума вернулась, глядит – и медовуха в ковше недопитая, и нет никого. Плюнула да пошла огород полоть.
А кум приводит соседа на речку. Вот, говорит, смотри, чтоб не брехал после, что не видел. Разделся до самых подштанников, одёжку на берегу положил, а сам с соседом – в кусты. Тут вскорости приходят две молодухи, глядь – такое дело. Чья же это одёжа, одна спрашивает. А вторая отвечает: да Степана Хорохонова, разве не видишь, куда это он подевался? Стоят, головами вертят, вот до одной дошло. Дядя Степан, кричит, дядя Степан, ты живой ли? А кум в кустах сидит и жалобно так себе под нос выводит: «Утоп я, красавица, нету больше вашего дяди Степана…»
Видят бабы, кричи не кричи – не поможешь, подхватили подолы да в деревню. «Ну, – говорит кум, – началося. Эх, зря медовухи с собой не прихватили, а то б выпили за упокой грешной моей души». А соседу и не до медовухи уже. Слышь, шепчет, Степан, покуда нет никого, одевай свои портки да бежим отсюдова, а я тебе и так теперь верю. «Э нет, брат, врёшь, – смеется кум, – мне теперича самому интересно, чем оно обернётся. А если у тебя душа в пятки ушла, то и дуй себе куда хочешь». Но тут слышат – крики, визг, молодухи вернулись и с ними несколько мужиков, к заводи с бреднем шли. Разделись мужики, стали в воду нырять. Ныряли, ныряли, потом у берега бреднем водить начали, ну и чёрта с два вытянули, конечно. Унесло его, видать, говорят. Вы бы, бабы, в деревню бежали, позвали народ, да и старухе его надо сообщить.
Те и посвистели. Покуда добежали до кумова дома, всё Раменье на ноги подняли, там почитай уже двадцать лет никто утопленника не видел. Нашли куму в огороде, а как сказать – не знают. Потом одна осмелилась:
– Баба Дуся, там возле речки вашего деда рубашка с картузом лежат. И штаны…
– Чего штаны? – кума не поймёт. – А где козёл-то мой?
– Дык, утонул…
– Чего-о? – у кумы и глаза на лоб полезли. Наконец смекнула кой-что.
– Утонул, стало быть? Ну, пойдём поглядим. Только сперва дай прихвачу крапивки.
Подошла к забору и ну крапиву ломать. Молодухи чуть не упали:
– Тронулась баба Дуся!
Евдокия целый веник наломала и – к речке. А там уже всё село. Мужики ныряют, бабы орут, детей от воды гонят. Ну, натурально светопреставление. Увидели куму – замолкли сразу все, стоят-переминаются. А Евдокия крапивным веником помахивает да осматривается:
– Где ж искать утопленника?
И пошла к кустам, где кум с соседом залегли. Тут Степан как выскочит из кустов да как кинется в деревню, а сосед его – как стрельнёт в другую сторону! Никто сперва и не понял ничего, одна кума не растерялась и прямиком за дедом своим. «Ах ты, – кричит, – утопленник вшивый, ах ты пугало раменское! Я вот тя оживлю крапивкой!» Тут и народ в себя пришёл и тоже за ними. Спереди, значит, Степан несётся в одних подштанниках, следом бабка Евдокия с оружием своим и позади уже всё село: кто ругается, кто хохочет. Картина!..
Кум до дому-то добежал, прыгнул как заяц в дом и до сей поры носа из него не кажет. Умру здесь, божится, а насмешек над собой не вынесу. Попутал меня нечистый на старости лет, на весь белый свет опозорил. Брось ты, говорю, Степан, маяться, все уже, чай, забыли, только им и делов – помнить, как ты без штанов по селу просверкал. Ой, стонет, не напоминай ты мне про те штаны, никто не забыл и никогда не забудет. Буду на этой печке лежать, пока не помру!
– Даст бог, выживет! – еле сумела сквозь смех проговорить бабушка.
Смеялась она долго и от души… Акимыч её веселья не разделял, наверное, жалел своего кума. Он то ставил на стол чайную чашку, то вновь брал её и с неловкой улыбкой вертел в руках. Потом отыскал взглядом свою кепку и сказал бабушке:
– Пойду я, Тонь, а то Пелагея, чай, давно велосипед мой заприметила. Скажет опять, что даром языком мелю…
Дед стал собираться, слез со стула и Лёнька.
– Я с Акимычем! – решительно заявил он.
– Пойдём, пойдём, – дед Фёдор похлопал парнишку по плечу. – Ты у нас в гостях ещё не был, посмотришь, как я со своей старухой существую.
…Дом у деда Фёдора оказался побольше бабушкиного. И окошки, заметил Лёнька, были высоко от земли и широко открывались солнцу. Кроме того, избу Акимыча украшали резные узоры, а крыша увенчивалась расписным петухом, который сидел вытянув шею и взмахнув крыльями, точно собирался взлететь.
– Красивый дом, – не удержался Лёнька, и Акимыч по-настоящему заволновался от этой похвалы.
– Всё своими руками, Лёня, всё своими. Душу вкладывал в каждую досочку, оттого и красиво… И добротно, само собой. Он у меня считай три десятка лет стоит, а ты погляди – будто вчера соструганный. Я как с войны пришёл, сразу и замыслил этот дом, необычный дом, Лёнька. В наших краях избы-то все из брёвен рубят, а тут брёвна только в нижнем венце, что на фундаменте лежит. Всё остальное из досок и опилок. Это меня на фронте научили сибиряки: два слоя досок, а между ними опилки засыпаются. Их, правда, лет пять потом приходилось с чердака подсыпать. Зато дом получился монолитный и теплый. Сколько дров я на нём сэкономил! Твоя бабушка, к примеру, за зиму кубометров шесть сжигает, а я тремя обхожусь. И тепло в доме – хоть двери отворяй…
– Петушка тоже сам сделал? – показал Лёнька на конёк крыши.
– И петушка, и наличники, вон погляди, и всю эту резьбу. Да я, Лёня, и в избу всё сам смастерил: придумал и сделал…
– Явился-таки, не запылился, – раздался неожиданно зычный голос бабки Пелагеи. Она стояла на крыльце и поджидала деда с Лёнькой, по-хозяйски скрестив руки на груди. – Чего так рано? Кум, что ли, заболел?
– Да вот, к Лёньке торопился, – ответил Акимыч.
Бабка Пелагея пригласила мальчика в избу:
– Заходи, Леонид, попотчуем и мы тебя. Не одной твоей бабушке такая радость, позволь и нам хлеб-соль показать.
Внутри дом Акимыча выглядел ещё занятнее, чем снаружи. В нём, словно в большой старинной шкатулке, таилось множество чудес, но чудес деревянных. Это была резная и точёная мебель, сработанная руками деда Фёдора.
Лёнька медленно ходил от стула к дивану, от дивана к этажерке, а оттуда – к комоду и буфету, подолгу разглядывая каждое такое чудо. Вот лев, вырезанный на подлокотнике кресла, мирно дремлет под тиканье настенных часов. А жар-птица на буфете будто бы на минуту присела отдохнуть, а хлопни неосторожно дверцей – встрепенётся и улетит…
Даже табурет у Акимыча – и тот был не простой. По ножкам его бежал цветочный орнамент, а в сиденье виднелось отверстие для руки – чтобы поудобнее брать табурет. Лёнька это приспособление сразу испробовал.
– Что, лёгкий? – спросил наблюдавший за ним Акимыч. – И прочный, заметь. А ему ведь уже лет семьдесят, никак не меньше. От отца память осталась. Он у меня тоже и плотник был, и столяр – редкий был мастер. Я до него так и не дотянулся, хоть у него и учился всему. И при этом знаешь, как моего отца в деревне звали? Аким-простофиля да Аким-увалень. Он мог последнюю рубашку с себя снять и прохожему отдать. Мог в лепёшку расшибиться и соседскую избу так расписать, что после сам диву давался. Зато в своём доме точно гость был. Для себя ничего почти не делал, разве что мать силом заставит. Кажись, и этот табурет так получился. А жалко, ей-богу, – Акимыч погладил старый отцов подарок.
– Я, Лёнь, почему говорю, что далеко мне до бати-то? Учиться у него я рано начал, с восьми лет. С четырнадцати уже в артели топором махал и всё мечтал стать хорошим мастером. А к двадцати годам был я настоящим плотником и столяром. Прислушивались ко мне, на ответственные работы приглашали, что правда, то правда. Даже и отец мною гордился. Трезвый, бывало, промолчит, а как выпьет, так и начнёт хвалиться: вот, мол, какой мастер из сына получился… Я ведь, Лёня, один у него был. Родилось ещё до меня двое ребяток, да в детстве и померли.
Слушал я отца, хоть оно и неловко вроде, и радовался. Думал, что догнал, а в чём-то и превзошёл родителя. Дурак был, одно слово. Когда ещё понял, что отец мне не чета. Я-то как всегда работал? Прежде чем за топор взяться, я в уме всё семь раз отмерю и построю. Ночами не сплю, кумекаю, как мне то-то и то-то сделать. Пока до последнего гвоздя всё не придумаю – и начинать не стану. А батя инструмент брал и сходу начинал. Легко, не задумываясь работал, по наитию. И выходила у него всегда – сказка!
– Дедушка, а что за артель? – спросил Лёнька.
– А-а, это в двадцатые годы было. Крестьянину в то время туго приходилось. Случалось, что на выращенный хлебушек и не проживёшь. Тогда, чтобы семью прокормить, сбивались такие мастера, как отец, в плотницкие артели, или бригады. И шли, как говорится, по свету, предлагали своё умение людям. В летнюю пору строили дома, амбары, ремонтировали кому чего. За любой подряд брались, лишь бы платили хорошо.
Я когда подрос, поднаторел в плотницком деле, отец и меня с собой начал брать. Первые два года я, как водится, на побегушках был, зато к шестнадцати вровень с артельщиками встал, а через несколько лет уже опыта набрался, мужики меня зауважали. Вот слушай, с чего это пошло.
Строили мы богатый дом в Перово, и я уже не меньше прочих вкалывал, а всё в подмастерьях числился. Однажды замечаю, что Федот Пантелеич, наш старшой, рубит, понимаешь, венец не так. Вернее, рубит как обычно, а я чувствую, что здесь по-другому нужно. Иначе сдвиг получится, перекосится сруб. Меня аж в жар бросило от моей догадки. Что делать? Надо бы подсказать, да, с другой стороны, как подступиться – ведь это ж мастера учить берёшься! Битый час мучился, а потом собрался с духом и выложил всё. Мужики, знамо дело, на смех подняли. А положили венец – вот он, перекос, и получился. Пантелеич выругался, но не смирился, стал по-своему переделывать. Бился-бился – ничего не выходит. Уже другие артельщики помогают – и всё без толку.
Тут и позвали меня: давай, грамотей, показывай, как надо. Сами стоят, перемигиваются… А я срубил венец, как думал, он и лёг тютелька в тютельку. После этого Пантелеич и сказал моему отцу: берём, Аким, твоего сына в артель, вырос он из подмастерьев. С тех пор зарабатывал я деньги наравне со всеми.
Видишь, Лёня, как раньше люди ремеслу учились. Никто ни с кем не цацкался. Хочешь стать мастером – гляди на старших, учись у них, никаким трудом не гнушайся. Это тебе не нынешняя система – проучился два года, хорошо ли, плохо, научился чему или нет – тебе всё одно разряд. А в артели ты за одни харчи на побегушках мог несколько сезонов пробегать…
– Самовар поспел, – заглянула в комнату бабка Пелагея.
Из кухни, где они чаёвничали, одно окно выходило в сад, и там Лёньке открылось такое, что он сразу позабыл про пирог и сладкие ватрушки. Прямо в саду у Акимыча в пологих бережках лежал настоящий пруд, и маленький ладный домик нависал над ним.
– Что это?
– Где? – спросила бабка Пелагея. – Куры, что ль, в огород зашли?
– Там домик над водой…
– Э-э, – разочаровалась Пелагея Кузьминична, а дед наоборот оживился.
– Дачка моя, – с удовольствием ответил он, обернувшись к окну. – В принципе дачкой я её так, для себя окрестил, а вообще мастерская у меня там. Вот попьём чай…
– А я уже! – Лёнька поспешно отодвинул в сторону недопитый чай. – Спасибо!
Бабка Пелагея посмотрела на него осуждающе:
– Поди, не убежит никуда ваша дача! Поел бы по-людски…
Но Лёнька уже тянул Акимыча за рукав. Пелагея Кузьминична осталась в кухне одна.
Подойдя к пруду, мальчик увидел, что воды в нём немного и чудесный домик висит над пустотой.
– Лето нынче сухое – обмелел пруд, – объяснил Акимыч. – А так он что надо. В нём даже карась водится. Не веришь? Карась – рыба неприхотливая, в ил забьётся – ему и вовсе воды не надо. А тут дно илистое.
– А почему у вас в саду пруд? У бабушки нету.
– Да это я сам вырыл, ещё до войны, чтобы огороду и саду помочь. Пруд в сырое лето лишнюю воду забирает, а в сухое, как нынешний год, подпаивает землю. Жаль, сейчас на исходе его силы. А бог даст, принесёт в Пески дождичек, тогда и пруд оживёт, и карасю будет приволье.
– Дедушка, а дом над прудом для красоты?
– Для красоты? – не сразу уловил Акимыч. – А ведь ты, Лёня, первый так сказал. Обычно как судят: непрактично, хлопотно было строить, быстро сгниёт… Но ты правильно заметил: получилось как на картине. А летом по вечерам ещё и музыка у меня тут. Я порой заработаюсь допоздна, домой идти – только бабку тревожить. И остаюсь до утра на дачке. Слушаю лягушачьи концерты.
– У нас их тоже слышно, но тихо, – вспомнил Ленька.
– Это совсем другое, – убеждённо сказал Акимыч. – Я когда здесь слушаю, прямо в серёдке ихнего хора сижу, как на концерте в зале. А издали слушать – всё одно что по радио. Приходи сегодня вечером, сам услышишь.
– Сегодня не могу, – Лёнька вспомнил про посиделки домовых и ощутил радостное волнение.
…Они зашли в мастерскую, маленькую и в самом деле, как дачка. Окна в ней были закрыты ставнями, и Лёнька, распахнув створки, выглянул наружу. С высоты пруд, обрамлённый с одной стороны деревьями, а с другой изгородью, казался глубже и значительней.
Дед Фёдор подошёл к окну.
– По правде говоря, дачка над прудом с Пелагеиной руки появилась. Я когда строить её решил, земли свободной уже не было. Пелагея ультиматум поставила: строй где хошь, хоть над прудом. Ну и не стал я с ней за грядки воевать. Подумал-покумекал и взялся над прудом строить. А что, нравится моя столярня?
– Угу… А окна от воров закрыты?
Акимыч хмыкнул:
– В наших краях какие воры! Тут и собак-то никто не держит. Нет, это я своим друзьям отдыхать даю. Ну чего опять удивляешься, вон их сколько, – Акимыч кивнул на стены, где стояли и висели его рабочие инструменты: рубанки, фуганки, ножовки, стамески… «Зачем так много? – подумал Лёнька, оглядывая армию дедовых помощников. – И одинаковых полно…»
Дед Фёдор угадал мысли мальчика.
– Чтобы столярничать, Лёня, много чего надо. А для тонкой работы и подавно требуется хороший инструмент. Мне какой по наследству достался, какой сам покупал. Потом вижу: не то, другой нужен. А где его взять? Начал я тогда сам делать и собрал целую коллекцию. Смотри, – Акимыч снял со стены самый неказистый инструмент, – этим рубанком мой отец строгал. Он у меня уже давно на заслуженном отдыхе. Так изредка пройдусь по досочке, чтобы порадовать старичка. А этот топор и вовсе от деда, но до сих пор верой и правдой служит. Теперешние топоры иной раз от крепкого сучка тупятся, а мой ветеран гвозди рубит – и ни одной зазубринки, – Акимыч любовно погладил потемневшее топорище. – Он ведь понимает, Лёня, что мы с тобой о нём говорим. И чувствует всё, прямо как человек. Попробуй-ка поругай его зазря, а то ещё хуже – швырни в грязь по нерадивости. Разобидится так, что потом всё бревно тебе испортит. Или поранит даже. Эта повадка каждому ремесленнику известна…
Прочие вещи, если обратишь внимание, так же себя ведут. К примеру, один человек ботинки годами носит, а на другом они за неделю сгорают. Первый-то их любит, бережёт, а другой таскает так, без внимания, без благодарности. От этого и умирает обувь раньше срока.
Вот видишь табурет? С ним тоже была история, в ту пору ещё, как началось бегство из Песков. Иду я под вечер, уже смеркается, и вдруг слышу: кто-то плачет тоненько да горько. Как будто дитя заблудилось в кустах. Я подошёл, кусты раздвинул, а там этот табурет. Ножка у него одна сломана, и сам недюжий уже. По мирским меркам, конечно, одна ему дорога – в печку. Видать, уезжали из Песков, а его брать не захотели, было от чего плакать…
Взял я его с собой, принёс сюда, разглядел получше. Эх, думаю, бедняга, ну-ка попробую тебе помочь. И до полуночи я, Лёнь, его ремонтировал. Зато какой друг сердечный с тех пор у меня появился! Теперь как устану или спина разболится, просто сажусь на этот табурет. И всё, и любую боль как рукой снимает. Вот какой у меня доктор! Ну-ка посиди на нём маленько, а я тебе кой-чего покажу.
Акимыч достал из-за маленькой печурки обтёсанное полено и, подойдя к токарному станку, закрепил на нём заготовку. Он подкрутил, подвинтил что-то, загородил полено железной планкой и снял со стены несколько стамесок. Потом снова приступил к станку, и тот, ухнув, стал набирать обороты. Чем быстрее нажимал Акимыч ногой на планку-педаль, тем стремительней крутилось полено, превратившись наконец в гудящий волчок.
Дед Фёдор выбрал одну из стамесок, приложил её к железной планке, и с полена полилась на пол янтарная стружка.
Лёнька соскользнул с табурета и подошёл ближе, а волчок после нескольких проходок по нему стамеской сделался круглым и ровным. Уже казалось, что он не крутится, а неподвижно висит в воздухе, хотя весь механизм скрипел и работал, а самое большое колесо вертелось быстро, как пропеллер.
– Грубую обработку прошли, – сказал Акимыч то ли себе, то ли Лёньке. – Теперь возьмём другую стамесочку.
Она врезалась в деревянный волчок, и тот постепенно стал обретать фигурную форму. Трудно было отвести взгляд от этого превращения, и Лёнька смотрел и смотрел, а под ноги ему стелился пахнущий смолой светло-жёлтый серпантин.
Закончив последнюю операцию, Акимыч освободил из станка то, что ещё недавно было простой деревяшкой, и обтёр его стружкой.
– Что это? – спросил мальчик, рассматривая новоявленную фигуру.
– Это для будущей этажерки деталь, – дед открыл какой-то ящик, и Лёнька увидел в нём уже немало таких же точёных фигур. – Племяннику своему из Харина подарок готовлю, ему на днях пятьдесят стукнет…
…Солнце стояло ещё высоко в небе, но природа уж переводила дыхание от послеобеденной жары, и деревья мягко шумели, отгоняя тяжёлую дремоту. Лёнька не ушёл бы от деда Фёдора дотемна, но появилась бабушка и увела «хлопотного гостя» домой. Мальчик не обиделся и не расстроился, он был в том состоянии духа, для которого не существует ничего плохого в целом мире. Лёнька уже хорошо знал эти внезапные приливы счастья, глубокого и беспричинного. «Здесь, в деревне, каждый день не похож на другие, – думал он. – И всё время интересно. А если тут жить всегда, то проживёшь много-много удивительных дней…»
ПОСИДЕЛКИ ДОМОВЫХ
На посиделки Лёнька с Хлопотушей отправились уже за полночь, когда Пески погрузились в короткий летний сон. Темнота не укрыла деревню полностью, и, продвигаясь вперёд, Лёнька ясно различал по сторонам контуры домов и похожие на призраки груды развалин. Тяжёлые ночные бабочки проносились мимо с жужжанием веретена и исчезали в лиловой мгле, а небо то и дело пересекали трепещущие тени летучих мышей.
Лёнька торопился за Хлопотуном, ни о чём не спрашивая и не пытаясь заговорить, словно безмолвная ночь наложила запрет на все слова и расспросы. Хлопотун сам прервал тишину, когда они свернули с улицы и очутились в дебрях заброшенного сада. К Лёньке сразу потянулись шелестящие лапы разбуженных деревьев, а ноги его запутались в силках высокой травы.
– Ты чего там завяз? – поторопил Хлопотун. – Держись меня, тут тропка есть.
Узкая тропинка смело повела их через буйные заросли, и сотни запахов хлынули на Лёньку дурманящей волной. Медовый аромат липы струился с высоких крон, а от земли навстречу ему поднимался густой мятный дух. Чёрная смородина выдавала себя благоуханием резных листьев, в которых пестовала она терпкие целебные ягоды. И где-то совсем рядом в тёплом воздухе то появлялось, то исчезало слабое дыхание ночной фиалки.
Дом для посиделок оказался целым и крепким на вид малышом. Одна-единственная ступенька вела на низкое крылечко. Дверь в избу была ему подстать: только мальчику и домовому впору пройти не нагнувшись. Вслед за Хлопотуном Лёнька перешагнул порог, миновал тесные сени и остановился в кромешной тьме.
– Долгой ночи, добрых дел, – сказал Хлопотун в эту темноту.
– Долгой ночи, – глухо ответил чей-то невидимый голос, – это и есть твой Лёнька? Сколько помню, люди к нам на посиделки не заглядывали.
– Толмач, – тихо промолвил Хлопотун, – то, что должно случиться, рано или поздно случается. Этот человек пришёл к нам не зря. А если ты сомневаешься в мальчике, испытай его сам.
Наступило молчание. Тот, кого звали Толмачом, видимо, задумался.
– Ну, будь по-твоему, – произнёс он наконец. – Может, ты и прав, Хлопотун. А ты, мальчик, вспомни сначала что-нибудь очень хорошее, а потом очень плохое.
Не успел Лёнька сосредоточиться, как в его сознании вспыхнул яркий свет и появился Акимыч со своей по-детски наивной улыбкой. Лёньку опять охватила горячая волна радости, и захотелось, как давеча, броситься на шею к деду. Но свет неожиданно померк, и вместо Акимыча Лёнька увидел бабушку. Она сидела, уронив руки на колени, устремив невидящий взгляд куда-то мимо мальчика, и тот понимал, что её печаль о погибшем муже не развеется никогда…
– Бабушка, – дрожащим голосом сказал он, – бабушка, не плачь, я так тебя люблю!..
– Успокойся, Лёня, – проговорил Толмач, возвращая мальчика в настоящее, – проходи и садись, доброму сердцу все двери открыты.
В этот миг темнота вокруг Лёньки сделалась прозрачной, и он увидел горницу и собравшуюся в ней компанию из пятерых домовых. Среди них Лёнька без труда угадал Толмача. Тот казался старше других, и его длинная шерсть серебрилась сединой.
Толмач сидел, облокотившись о деревянный стол, и смотрел на Лёньку умным спокойным взглядом. Хлопотун подтолкнул мальчика, и Лёнька присел на краешек длинной лавки рядом с домовым в пушистой, похожей на кроличью шёрстке. Пушистый не медля повернулся к нему и весёлым голосом спросил:
– А ты привёз из города игрушки?
– Нет… – растерялся Лёнька.
– Эх, жалко, вот бы посмотреть!..
– Да, напрасно ты, Лёнька, игрушек сюда не навёз, – подхватил домовой, сидящий у окна, – а то в нашем магазине одни платочки для гражданочек.
Домовой рядом с Лёнькой аж подскочил, хотел что-то ответить, но не нашёлся и только нахохлился.
– Ты Панамка? – догадался Лёнька. – Ты в магазине живёшь?
– В магазине, – нехотя буркнул домовёнок.
– А где твоя фуражка?
– Дома осталась…
– Вот, Лёнька, тебе и товарищ, – сказал Хлопотун, – а это у нас Кадило, – и указал на сидящего возле окна.
– Да-а, кадим понемногу, – отозвался тот, – но больше для собственного удовольствия, чем для пользы дела.
Лёнька ничего не понял, тем более, что никто не обратил внимания на реплику Кадила, а Хлопотун уже представлял следующего:
– А это наш многоуважаемый Пила.
– Меня зовут Запечный, – сердито возразил домовой.
– Звали тебя когда-то Запечным, – поправил Хлопотун, – но с того времени, как испортился твой характер, стал ты настоящей пилой.
– Да ещё и ржавой, – в тон Хлопотуну добавил Кадило.
– Ты же ещё и подзуживаешь? – взвился Пила. – Думаешь, не знаю, кто мне эту глупую кличку дал? А я всё равно Запечный.