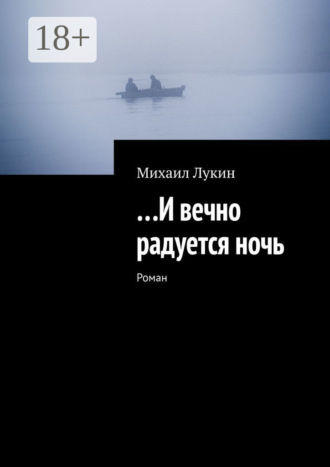
Полная версия
…И вечно радуется ночь. Роман
– Тогда что же вас, счастливого обладателя диплома магистра медицины, здесь заинтересовало?
– Ну, перво-наперво нужно заметить, что я явился к вам, обратите внимание, в обычном своём, повседневном, нерабочем облике…
– Только с часами…
– Только с часами!
– …Подмечать время, проведённое со мной, чтобы выставить счёт…
– Возможно.
– Неужели, вы тут с частным визитом?
– Можно и так сказать! Я здесь частное лицо – у меня, видите ли нынче – в кои-то веки! – отгул…
– …И вы посвятили его мне – не глупо ли!
– Ну, признаться, благодарности за это я и не ждал…
– Чего же вы ждали? Объятий, слёз, заламывания рук?
Задумывается, чешет зеркальный подбородок.
– Наверное, чего-то особенного, мудрости, что ли, обычно сопутствующей сединам… – и вдруг оживляется: – Впрочем, своими словами вы подталкиваете меня к мысли, что в этом есть рациональное зерно.
– В чём же?
– В медицине… Да-да, послушайте: я долго боролся за это… Возможно, друг мой, возможно! – задумчиво говорит он. – Видите ли, когда обстоятельства оборачиваются против нас, это отражается определённым образом на здоровье, да, на умственном и физическом состоянии личности.
На это я смеюсь:
– Ха-ха, уверяю вас, пертурбации жизненные никоим образом не влияли на моё состояние, – и тут же неловко обличаю себя в самой гнусной лжи.
Его реакция определённа:
– Если вы полагаете, – он явно заинтригован пробежавшей по щекам моим тенью, – будто вас не коснулось это (хотя я уверен в обратном!), то это вовсе не означает, что минуло иных. Когда это хотелось больному верить в болезнь?! Куда проще, сподручней верить в доброго милосердного Господа, нежели в некое, разной степени персонификации, несчастье.
«Словом, всё-таки недужен Лёкк! – думаю, обругивая себя самыми последними словами. – Или же… просто грешен?».
Он ждёт дальнейшего, но я загоняю себя в равнодушное молчание, и рисую лицом куда большую заинтересованность происходящим за окном, где, конечно же, ровным счётом ничего не происходит.
– Не принимайте слова мои близко к сердцу, Лёкк, – мягко сдаёт он обратно, – они относятся не к кому-то лично, но ко всем, ибо все мы в массе своей – подобны пальцам на руке; недаром произошли мы от одной Евы, – оборачиваюсь к нему и встречаюсь с таким же холодным взглядом, как и всегда, без следа мягкости и теплоты, в которую намеренно окрашивает он голос. – Знаете, порой ловлю себя на крамоле: я благословляю болезнь, ничего не могу поделать! – он пытается улыбнуться мне; выходит криво. – Отчего, спросите? Не оттого, вовсе, что карман мой топорщится банкнотами; разительные изменения – вот что! В хвори Тварь Божья показывает себя!..
«Будьте любезны, – думаю, – любитель задушевных бесед, Стиг, разбил собственный свой ботанический сад из чистого интереса за наблюдениями. Каково быть тебе листиком в гербарии, ну?!».
– …Есть в этом нечто природное, ветхозаветное, не так ли!? – от удовольствия, что нападает на нужный мотив, он даже причмокивает. – Веру Иова испытывали именно страданиями. Вам по душе такое сравнение, Лёкк? Вижу, что так. Вера в свет испытывается тьмою, вера в добро – злом!
Молчу, даже не мрачнею. Добился, думаю, чего он нахрапом? Чёрта с два! Напротив, наговорил с три короба, разоткровенничался, вероятно (если это не дьявольское коварство), неосознанно, во вред себе, но помимо тени у меня для него ничего нет.
И лицо его сереет. Живописный рот натурщика переходит к пространным разоблачениям. Заденет, ранит ли это заскорузлого Лёкка?
– Да вы – преступник, Лёкк, вот что! Грешник! Злодей! Сколько грехов на совести вашей? Не больше ли, чем тягот? Подозреваю, именно эти грехи привели вас сюда, бросили, скажем так, в мои руки…
Без толку: продолжаю равнодушно молчать, ковыряя взглядом потолок.
– …Я вот всё думаю, – разглагольствует, – ненавижу ли я вас, почитаю, либо вы мне безразличны? Нет, какое-то чувство есть, снисходительность, сочувствие, быть может, что-то ещё… Вы не жертва обстоятельств, нет-нет, все эти ваши грехи (проступки, в сущности) очаровательны и являются в облачном сиянии благодеяниями. Для всех вы чисты, как ангел, чище быть не может – куда уж мне до вас! Да вас просто-напросто мало кто знает, а видело… Кто вас видел, милостивый государь? Откровенность за откровенность, да! Но всё же, всё же…
И вдруг… ни с того ни с сего, крутой маневр: смягчается, просит не держать сердца, ибо, не имея никакого ко мне в душе предубеждения, напротив, глубоко симпатизируя, он всего лишь протягивает мне руку помощи, а без откровенности, искренности… добиться ли этого?
А я всё гляжу и гляжу: когда возможно будет вычитать что-то в душе его? Слова, действия, взгляд – что необходимо для этого? Чужак, незнакомец, пытается вторгнуться он в душу мою, вызнать мотивы поступков; интрига влечёт его, отчего – не знаю, но влечёт. Быть может, сам Сатана, исчадие Боли и Зла, испытывает меня, быть может, ледяной взор – всего лишь завеса, ширма кипящей лаве сознания? Недаром поминал он пустыню и власяницу, недаром! «Нет, что вы, доктор Стиг – Спаситель, пророк, как можно думать обратное, – имей дар речи возопила бы Фрида, – он может ходить по воде!». «Вот как, занятно, и сами вы видели это?». «Что вы, что вы, – только и смутится она, – как можно докоснуться мне эдаких тайн?! Люди сказывали…». Ах, вот как! Что ж, люди врать не будут, хе-хе…
Время идёт, красноречие стремится к нулю, угасает, шипя, конструктивный пыл – какие уж тут разговоры по душам?! Миккель Лёкк уклончив, капризен, вероломен и… неизменен в этом. Вероломен? Но не лучше ли быть неизменным в этом, нежели переменчивым в ином? Неведомо, что лучше, что хуже… Ему любопытны мои устремления… Взаправду ли? И только лишь мои? Либо так мытарит он всех тут – с целью сближения ли, для создания атмосферы уюта, без недоверия, лжи? Ха-ха, что за чушь! Свежо предание… В лице напротив ни следа переживаний; о, я знаю, о чём говорю – писательское чутьё обязывает! И с одинаковым видом он как раскроет распухший талмуд истории болезни вновь прибывшего насельника, так и закроет, едва отмаялся тот уж на этой земле, и, холодный, ждёт последнего дела здесь – отпущения грехов, сиречь резолюции господина Стига над заключением о кончине.
Встряхиваю головой, поднимаю взгляд – мысли, будто мячики, резвятся, но больно не бьют; это задорные, мало пока значащие, мысли.
Ни с того, ни с сего, воодушевившись, возвратился Стиг к пустыне и власянице, и приходит на ум ему, будто петляет, уклоняется от ответа Лёкк, а всё оттого, что совесть никогда не была судией ему, напротив, жестянкой, расходным материалом – не выглядит ли это столь красноречиво?! Бессильная и нелепая попытка наткнуться на нечто новое… В ответ – ни слова против; более того, разумеется, следуют признания в страшных преступлениях, в числе которых и подрыв «Лузитании»:
– …Ведь у меня же был мотив, да ещё какой! Qui prodest – помните? На ней плыла моя двоюродная тётка, а уж за ней-то водились кой-какие деньжонки…
Молчание. Стучат настенные ходики, надрывается в немом ужасе на стене Мунк. Время ползёт гусеницей – незачем торопить его, все беды на Земле от спешки…
Естественно, Стиг первым пресыщается безмолвием.
– Короче говоря, беседовать со мной, как с человеком, благосклонным к вам, как с другом, вы не намерены, – подводит черту. – Очень жаль, возможно было достичь какого-то прогресса, по крайней мере, я видел свет в конце тоннеля.
Ба, он видел свет в конце тоннеля! Сейчас лопну от смеха и залью своей желчью всю «Вечную ночь» снизу доверху – он видел свет… Можете себе представить такое?!
– Стиг, знаете историю о кошке? – спрашиваю.
– Не знаю, о чём идёт речь, – с подозрением косится он на меня. – Поделитесь? Или для этого тоже придётся листать энциклопедии?
– Отчего ж, милый доктор, слушайте: однажды в одном доме на мягкой подстилке лежала старая-престарая кошка, от роду которой было лет сто по их кошачьим меркам, и которая уж готовилась вполне себе так мирно отойти в мир иной, к своему кошачьему богу. А вокруг неё всё скакала да резвилась молодая кошка, совсем юная, единственная в своём возрасте, которую уж взяли для того, чтобы заместить ту, что вскоре бы умерла. Но оно и неудивительно – надо же кому-то ловить мышей, лежать тёплым комочком на руках хозяев, надо же кому-то, в конце концов, сидеть на окне и гордо поглядывать на прохожих, лоснящейся шкуркой на солнце показывать достаток дома. Так оно испокон века было, и так оно будет – старое уступает место новому, на прахе вырастают новые цветы, молодые и свежие. И вот молодая кошка прыгает себе да прыгает, играет себе да играет, да вот беда, что одной, без компании, прыгать и играть в скуку. И вот стала молодость донимать старость: чего тебе лежится, это же так скучно, айда прыгать и играть, и никак не могла взять в толк, что может случиться и так, что прыгать и играть будет не в радость и не всласть…
Где-то вдалеке, быть может на первом этаже, или же во флигеле, настойчиво звонит колокольчик и, вдобавок раздаётся ещё какой-то шум – доктор отвлекается, прислушиваясь, а затем неожиданно с сарказмом и небрежностью бросает мне прямо в глаза:
– Очень интересно всё это, но сказки господина Андерсена я могу прочитать и сам!
– Это вовсе не Андерсен, как бы вам не казалось, – ничуть не смутившись, замечаю я.
– Ага, одна из ваших русских сказочек – жили-были… баю-бай…
– Тоже нет… Однако, позвольте мне продолжить.
Свинцовые белила на его лице слегка разбавляются охрой неудовольствия.
– А стоит ли?
– Похоже, вам со мной всё ясно… – говорю.
– Далеко не всё! Кое-что определённо… всё же я имею некоторое представление о вас благодаря тем справкам, что наводил, но, признаться откровенно, в них ещё больше тумана, чем сейчас здесь. Однако, льстить себе вам пока рано – любопытство всегда рождает возможность, а мои возможности велики.
– Разве здесь есть туман, доктор? Да и туман ли это? Поверьте, тумана ещё не было. Возня, шёпот, стариковский плач, слёзы – вот что было. Туман будет далее, да такой, что вы, доктор Стиг, потеряетесь. И будет ходить с фонарём Фрида здесь, как некогда один философ, и искать человека, вас, доктор – теперь здесь лишь вы – человек.
Далее происходит нечто необычное, чего я точно не упомню – противостоящий голос крикливо вздрагивает, густо насыщается родственным злости переменчивым отторжением:
– Чёрт побери, Лёкк! Да знаете ли вы, что одно моё слово (веское, кстати, в обществе!) и всё для вас будет кончено?! Вы… вы живёте, как хочется вам, не считаясь ни с персоналом, ни с нашими жильцами, вы даже думаете отлично от других. Вы не плывёте в общем потоке, что было бы для вас благом, особенно, учитывая ваше положение, и что было бы удобно мне, вы всегда барахтаетесь где-то с краю – это существенно осложняет мне… кхм, да, существенно… Знаете, что намереваюсь я сейчас сделать? Отправиться к себе наверх и написать статью в медицинский журнал, вот! Спросите, что о чём она будет? Что ж, раскрою карты: некий мой пациент, известный писатель, будет уличён мною в осмеянии общественных норм и морали, в паясничестве, жульничестве и симуляции… Случится скандал, газеты спустят с поводков всех собак – ну, ещё бы, сам Лёкк, тот самый знаменитый Лёкк, не важно что и неважно как – это уж они горазды выдумать! – вот хотя бы… искусно симулирует недуг, а сам же просто скрывается от общественного мнения в глуши! Как, зачем, почему??? Им неважно право на одиночество и покой, им нужны сенсации! И вот… именем Лёкковым пестрят передовицы, и вот подноготная – предмет толков, потреба зевак! Скажите, пойдёт это вам на пользу? Молчите?
Одно слово – и всё кончено… Как же глупо!
Ха-ха! Что будет кончено, что? Жизнь, как явление божественное, вместилище слов, событий, борьбы и тайн, либо существование здесь, в ледяных скалах непонимания, в извечном томлении по тому, на каком боку спать? И то, и другое – жизнь, бытие, existentia – различия велики, но не так уж и значимы, если приглядеться. И кому угодно вам препоручить меня – Богу или Дьяволу? Кому обещали вы мою душу, над которой сам я не властен? Растрачена, заложена, пущена с молотка – убогая, чёрная, как смола – и отнесена в небесной канцелярии в разряд явлений рациональных, как старая покосившаяся ограда. Прежняя моя бессмертная мятежная метущаяся душа! И будто, полагаете вы, я из тех, кто дорожит тем, что давно утратил, иначе говоря, торгует воздухом?
Шутка ли, истина, но и впрямь грозит он, и, по его убеждению, для Миккеля Лёкка можно назвать последствиями молву и толки! Для Миккеля Лёкка, чья жизнь уж… Бедный Стиг! Не жар ли у него, не лихорадка ли? Ему бы отдохнуть… Зачем явился к Лёкку он в законный отгул?
– Позор ужасен… – мнимая лаконичная горечь так и сочится из Лёкка. – И бесценна репутация…
Понимает: заговорился, хватил лишку. И тут же морщится, и впадает в задумчивые терзания – по смятому, как промокашка, плавно переходящему в череп, лбу можно учить географию. И когда австралийский материк стремительно вонзается в Индокитай, он взрывает воздух признанием совершеннейшего тупика:
– …Разве что день грядущий что-либо разрешит!
«…Либо последующий – и так далее…»
К чему было явление это, зачем? Выпустить пар, выговориться? Для этого есть смотрящие ему в рот сиделки, для этого есть трогательные сговорчивые постояльцы, для этого есть, в конце концов, милая немая Фрида. Лёкк же – каменный истукан, интересный только любителям древностей. Никаких воздействий не приемлет, уговорам не поддаётся, уходит в себя, теряется – да в этом мире ли он ещё?!
Что остаётся Стигу? Уйти также, сизым облачком ввысь, в пределы предвечного…
Он и впрямь оставляет помещение – даже и не сразу замечаю. Закрываю – открываю глаза… Его уж и след простыл – исчез между вздохами, на лоскуты распоров мгновение.
Молчу, зарекаю говорить даже мысли, обращаюсь в слух: в соседней комнате влетает несчастной мадемуазель Андерсен по первое число: «Не слишком редко посещаете подопечного? Коли впрямь пренебрегаете обязанностями – берегитесь!». На деле ж вины сиделки ни капельки: Хёст-счастливец свято посещаем, даже и чаще обычного. Обличителем выступил я исключительно в развлекательных целях. Обездвиженному, обезличенному, в коконе болезненных противоречивых мук, соседу занятно будет послушать эдакую музыку – не ахти какая, но всё ж забава.
В провале неприкрытого Стигом дверного проёма – мучнистое птичье чело; вовсе не под кроватью скрывалась Фрида, и не в шкафу. Мрачная, как водится, и с самой своей свирепой миной; в руках ведро и швабра – насмотревшись на бардак, Стиг наказал ей прибраться.
Обещание никогда не беспокоить грязно отброшено, и тотчас берётся за сиделку Лёкк:
– Фрида, господин Стиг захаживал, мы мило болтали; он поведал, между прочим, что отродясь бессонница у тебя, и ты вовсе не спишь! Этому был удивлён я несказанно! Что не ешь ты, не ходишь к причастию, не почитаешь Спасителем Христа, я и так знал, но… сон… это, знаешь ли… Нет-нет, не виню тебя, не подумай! Я даже рад, и хочу предложить: являйся ко мне так же по-свойски ночами, чтоб делиться нам с тобою думами, ибо трудно встретить существо неравнодушнее тебя. Ровным счётом никаких усилий это не будет стоить тебе! Я хотел предложить это другой, но та холодна, недоступна, а ты… ты отзывчива, добродушна, незлобива, и никакой корысти нет в тебе. Тем паче, коли уж ты совсем не спишь, а только дышишь у меня под кроватью, так выбирайся оттуда: мы просто потолкуем, ничего более. Одиночество гложет, порою, и такого, как я…
Не отрываясь от хлопот, с незыблемостью философа-стоика сносит Фрида агностические бредни – вот кого бы в собеседники Стигу! А я искренне уповаю, что дело всё же дойдёт когда-нибудь до того, что вход сюда осенять станет Фрида крестным знамением…
…Лишь бы саму её, как ведьму, прежде не бросили в костёр.
III
Вечером в мыслях тусклой звездою – Ольга! Которая из них – та, память молодости, далёкой исчезнувшей жизни, либо эта, земная и грешная – неведомо. Под пытками будто бы вырвано обещание явиться сегодня; появление разрешило бы некоторые вопросы, да… либо задало новые…
…И радостная истома ожидания затягивает, опутывает!
Свежо, опрятно в келье – благодарение терпеливо снёсшей стариковские издевательства Фриде! – и ты могла бы прийти, без лишних никому не нужных церемоний. Рухнуть, совсем как вчера, нежданно, снегом по темени. А явишься – мы потолкуем. Ни сигар, ни выпивки, не страшись, не будет. Всё просто и ясно – слова и только!
Нет-нет, знаешь, что: глупец, простофиля – имя мне, ей-богу! Как можно! Вовсе не станем говорить мы, именно это – лишнее. Слова всегда всё портят, согласись? Так к чему они?! Как же мудра давшая обет молчания природе Фрида – гораздо легче понять и принять её с украшенным массивным амбарным замком, ключ от которого давным-давно потерян, ртом. И с тобой, думаю, лучше будем немы. Взгляд, дыхание, ощущение, ничего иного: быть может, тогда проблем будет меньше, а больше – согласия, гармонии.
«Именно! – ликование осеняет меня. – Нужно лелеять безмолвие и со всеми остальными!».
И со Стигом, и со старухой Фальк, и с соседом, косматым медведем Хёстом, наконец?
Будто другие они, из иного теста, из иных костей? Будем перемигиваться… От доктора ничего путного так и не слыхано. Хёст? Рот его – пропасть, что ушло, не вернётся, и даже отзвука дожидаться обратно – тщета; лицо – маска, гипсовый слепок искорёженной жизни. Единственно глазами только и сообщается Хёст с миром: моргает сиделке – раз, два, три – подаёт условный, что-то, стало быть, означающий знак, да косится в вырез на массивной её груди, вряд ли осознавая, правда, зачем именно. А старая дама… Вот с той-то не наморгаешься! Слова вылетают из утробы пулемётными очередями и заткнуть её не под силу никому – разве что смерть сумеет. Что делать с вдовой и ума не приложу… Впрочем, если впрямь решусь отмалчиваться, то, видимо, будет всё одно, говорит ли она со мной, нет ли. Пусть чем угодно окрашено будет вылетающее из-за зубов её слово, и кто угодно держится в памяти её: супруг ли, король Норвегии, германский кайзер или Император Всероссийский.
Кстати, запамятовал, кто был супругом ей? Не Папа ли Римский!?
Нет, так ничего и не решено! Нелегко вверх тормашками опрокинуть заведённый уклад жизни… Лёкка, видите ли, окружают высокие монастырские стены, где веками наполняют своды одни и те же заунывные песнопения, и где временем выпестованный устав. И он так и не пролез туда со своим…
Увы, напрасно, напрасно развлекаю пустым упованием себя – не появится Ольга, не согреет рукою плеча, не коснётся взглядом…
Но всё же жду терпеливо – что ещё остаётся?! – до самой темноты, до тех пор, пока звон склянок, горшков, скрип костей и дребезжащее шарканье ног не замирают совсем. Прильнул жадно к окошку: ни облачка в выси, черничная бездна, выше самых высоких гор, и, естественно, несравнима с ними по красоте, ведь и от гор рано или поздно устаёшь, от бездны, захватывающей дух – никогда. Засеяна пашня Млечного Поля, и вскоре пойдут, ударятся всходы в рост в помощь тяготящимся бессонницей философам да молодым повесам, охмуряющим девиц.
Ольга, знаю, и ты не спишь, а взглядом ласкаешь урчащие от удовольствия звёзды. Приходи, преломим одиночество, как хлеб, пополам…
Истомление мережит взор: кто пожнёт посеянное? кто ляжет на застеленную тобой постель? Резь в груди, зубы скрипят, а руки… руки замком на шее. Это должно быть грёзами счастья: вот руки перестают повиноваться, руки обретают разум и свободу, а цель их – положить конец всему. Одно усилие, всего лишь, одно неуловимое движение… Всё, что было опасного у меня, забрали – ни ремешка, ни шнурка, ни даже тупого ножика для разрезания газет. А руки в который раз подводят… Счёт подан, а руки бессильны оплатить его, и разум не восполняет их; ходить, говорить, орать благим матом – ради бога! – расплатиться – нет. Этим снам сбыться не суждено! И вновь с дрожью кутаясь одеялом, через всё нарастающий дурман боли тянусь, точно за телом Христовым, за пунцово-красной облаткой…
Сейчас, сейчас всё пройдёт, будто бы ничего и не было.
Голова гудит, переливаются колокола внутри, мысли так и дёргают язычки – сомнительная неверная эйфория замещает собой сон! Хлоя, Ольга, Стиг… Круговерть, хоровод, свистопляска!
Чудак – доктор Стиг! Впрямь полагает, будто держится Миккель Лёкк за вальяжное, вялое существование, по сути медленный аутолиз?!
Всё реже и реже ходит по комнатам, предпочитая выслушивать или читать сиделок; на основании этого разрабатывается проблематика диссертации, отсылаются в умные столичные журналы статейки. Вот, Фрида пишет ему о Лёкке… О Лёкке, в самом деле? Да, о том самом, писателе, с которым потягаться вздумалось ей в прозосложении – речи-то, видите ли, так и не обучили бедняжку! – сколько сигар выкурил, сколько бумаги попортил, сколько раз обозвал язычницей её, а Его Величество Короля – отжившим рудиментом прошлого (ведь все русские – безумцы и революционеры, не так ли?), и тому подобные преступления против здравого смысла. Всё красочно живописует она, и сверх того – точно знаю, ведь молчуны всегда больше писатели, нежели ораторы, – пластинка, крутящаяся в чугунном котелке на её плечах, всегда вовремя переключается; на пластинке красивенькие мелодии, аргентинские танго, штраусовская полька, но ровным счётом ничего величественного, ни Вагнера, ни Грига. И этот танец отплясывает она Стигу на печатной машинке! Тот листает уныло, – глаза мутны, слипаются, – и зевает, едва не уткнувшись прямо во Фридину писанину, а затем подшивает в папку с именем Лёкковым и не проставленной датой неизбежного; в разуме ничего, кроме шальной мыслишки сесть за энциклопедию, как я советовал, а сверх того – скомканная седая усталость.
День, казавшийся бесконечным, окончен. Вроде бы и хочется остаться ещё, поразмыслить, но… не о чем. А тужиться, выискивать повод… Баста!
Вежливо чертыхается, хлопает кулаком по столу, щёлкает кнопкой светильника, и… прочь из опостылевшей мансарды. Тяжкие шаги на мраморной лестнице, последние наставления дежурным, стук двери, задорное бульканье автомобильного мотора… Путь неблизкий, но благость ночи обратится путеводной звездой, отдохновение – маяком.
Счастливого пути!
Оскопленная звёздами, брызжет жгучей лимонной кровью Луна. Кровь сочится из оконного стекла, стекает по стенам комнаты. Ночь морозная и безветренная; такая ночь – редкость в это время. Такая ночь рождает радостное смятение в больной груди. Это чувство застит накатывающие сквозь всё ещё неостывшие воспоминания волны боли. Смогу ли продержаться до следующей красной – Бог знает! То, что зачиналось надеждой, святой по сути, крошится, рассыпается разочарованием…
Поднимаюсь с кровати. Медленно, грузно, тащусь в дальний укромный уголок, отгибаю половицу – кое-что припрятано в тайничке! Надежда? Покой? Счастье? И то, и другое, и третье – сигара! Бесспорно, это самое то, что мне теперь необходимо! Если коротать время так, то, быть может, удастся забыться даже в бессоннице, и поприветствовать утро, а вместе с ним обход, прежде срока. А, быть может, сама Смерть явит мне милость, и проникнет в меня вместе с этим сладким дымом?
Потом ложусь вновь, глубоко затягиваюсь. И вдруг… падает крамола на ум: а существовала ли ты вообще, Ольга? Не выдумана ли мною? С именем таким, с такой долей, с такими словами, смуглая и черноокая – образ далёкой, утерянной безвозвратно жизни, полуизгладившийся след её тоски? Ведь сочинитель же ты, выдумщик неведомых миров и нездешних зарниц! Не наделяешь ли сам ты ветренную незнакомку мыслями и чувствами канувшего в лету человека, сливаешь воедино с нею, а всё же никак не сольёшь?
Возможно… Точно обухом ударяет по голове мне эта порочная и величественная мысль! Возможно! Даже допущение этого сулит безвестность. И, верно, произойдёт то, чего подспудно и жду я, и ужасаюсь – в ней, как в щёлочи, не мудрствуя лукаво, растворюсь и я сам.
Но… Если принять это, что же с моей собственной поразительной жизнью? Существовала ли она также? Ходил ли по камням этим такой человек, Миккель Лёкк, упражнялся ли в графоманстве, любил ли, ненавидел?.. Либо был он мифом изначально, и мифом же и остался? Но в небе – гляди-ка! – словно подтверждением созвездия складываются в моё собственное имя. Не это, с кондачка взятое супругой для шведского консульства (потому что нужно было срочно нечто, звучащее худо-бедно по-шведски), а то, русское, уж и самим мною почти позабытое… Триптих – фамилия, имя, отчество. Известные в монархической печати, в окопах Великой Войны, которую, будучи негодным к службе по болезни, прополз я корреспондентом. Знакомые, возлюбленные и ею, Ольгой – теперь я будто бы сам стал слышать их произнесённым её низковатым для такого хрупкого существа голоском. Протягиваю руку, касаюсь дрожащими пальцами забавных звёзд, щекочу – вот, теперь вам только и ведомо имя обращающегося к вам. Вам, и более никому! Что ж, и того достаточно, а возможно и сверх того – достоин ли я этого? Звёзды – вечны, они были всегда, а память человеческая…



