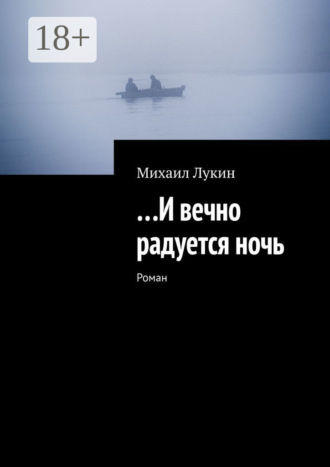
Полная версия
…И вечно радуется ночь. Роман
Проходит время, стук не думает умолкать. Не отвергнутая ли вдовица всё же вновь доискивается общества моего? Или же это стосковавшаяся по мне Фрида? Что ж пусть повременит за дверью, пусть пораздумает, пусть покипятится немного – о, это повод лишний раз воспылать ко мне ненавистью, если обладает чувством эдаким дохлая камбала… Нет, отчего Фриде стучаться? Вошла б без церемоний – ей, видите ли, не писан никакой закон! – да и дело с концом. Это кто-то ещё… Кто же, кто? А, может быть… она… Она же дала слово! Да, дала, явиться вечером, взгляни в окно – вечер уже? То-то же…
– Господин Лёкк! – глухой голос из-за двери рассеивает, наконец, тучи.
Конечно, признаю – сложно не признать! Не вдовушка Фальк, и уж точно не Фрида – с утра пораньше выбиралась та из-под кровати сварить кофе, подать таблеток, а теперь вновь оглушительно сопит там. Се есть Стиг, единственный и несравненный, а кроме того… в свободное от ослепительности своей времечко, директор, президент, Великий Могол, Сын Божий, и так далее. Словом, самый тот, пыжащийся продлить жизнь Лёккову собственными усилиями за Лёкковы же кровные, Стиг. Давеча блажь откровением звякнула в темя: стучаться в двери к постояльцам, испрашивать милостиво, будто в гостинице, дозволения! Вот так-то! Пусть может войти свободно, благо замков с его же лёгкой руки в дверях нет и в помине, но ему необходимо показать, как располагаем мы здесь собой – в этом изуверская суть! – вот он и бьётся: авось, упоенный, зачарованный мнимой свободой, в нетерпении ждёт Лёкк с караваем да чаркой водки. Да только не сбрендил ещё старый Лёкк, чёрта с два, и не собирается доставлять ему удовольствия – будет нужда, войдёт сам!
Вновь стук, и вновь отозван по имени Лёкк… Вольноопределяющийся и пленный, Лёкк.
Настойчивости, знаю, Стигу не занимать. А у меня так и вовсе нынче весь день свободен. Нынче и вовеки веков… И мы ещё поборемся!
Стиг… Презанятная особа, глава в книге жизни моей, эпилог, не написанный покуда… Мессия, Утешитель, живительный источник Правил, Заповедей, холодный почитатель Мунковского экспрессионизма как средства донесения визуальным рядом неких собственных непреложных истин. Я не особо церемонюсь с ним, и внимания моего занимает он немного. Но в обществе… О, в обществе притча во языцех он, тема к благоговейным шептаниям по углам, предмет культа и почитания, сила для упования во скорбях. И, как всякий культ, образ его – табу, непогрешим, всё сделанное и сказанное им – непоколебимо. Тсс…
Кашляет. Нервически, хлопотливо…
Тсс… Озираюсь, подношу палец к губам, словно бы громогласны мои мысли и велю я сделаться им потише.
«Кто ж на деле тот, за дверью? – шепотом спрашиваю сам себя и тут же смех разбирает: – Ха-ха! Одиночка! Культурный герой! Единственный, полагающий или же делающий вид, что полагающий, будто кто-то из нас в состоянии ещё хоть от чего-то излечиться; пусть не от хворей телесных, так от плесени скверного расположения духа – уж наверняка».
«Истинно, чудак!», – тосклива умирающая, оплакивающая своё господином Стигом убийство, тишина.
Как и положено существу высшего порядка, скорее метафизик и алхимик он, и, случается, лихорадочен, забывчив, безалаберен, против главного, в мелочах, а велик, возвышен недосягаемо – в грандиозном. Однако нечто приземлённое исполняет он с ревностью педанта – поддерживает тление жизни в наших почти угасших светильниках. И это, надо сказать, составляет основу его благосостояния. Заслуженного, выстраданного благосостояния! Ибо… шутки в сторону, господа, всё было на моих глазах: исцеление блестящего ума от зловредного вируса здравого смысла, и прикосновением – кручины.
– Господин Лёкк, как хотите, но я тотчас войду! Минуту вам на то, чтоб выдумать объяснение, отчего пренебрегли вы моей просьбой, и потрудитесь, чтоб быть ему худо-бедно благовидным – у меня нет желания более слушать нелепицы о белых карликах и атмосфере на Юпитере. Хронометр в руке, время стремительно!
И слышу: впрямь, из браслет-часов за дверью – щелчок, словно перезаряжается затвор, и соловьиные переливы.
Но, разумеется, не собираюсь ничего выдумывать. Даже и вскакивать-то при его явлении со шляпой в зубах, как заведено при европейских дворах – верх безрассудства! Некая пожилая и тронутая рассудком дама из семейства Фальк третьего дня так и не додумалась пнуть денно и нощно незапертую дверь. Сему же Марку Аврелию войти без помех – жеманство, пустячок! Чего это он, право, корчит из себя благовоспитанного?! Смелей же, смелей…
Но что принесёт он: опасность, раздражение, досаду? Чем обернётся появление его: неужто долгожданным вскрытием гнойника тоски? Определённо, прежним не быть мне – часто ли являются грешникам такие… эээ… существа?!
Скрипя, поддаётся дверь – сопротивляться ей не очень-то и хотелось. И вот комната кругом в лохмотьях лимонного душка, будто бы и не человек у порога вовсе, а лимонное, усыпанное вызревшими плодами, дерево, а в голове мгновенно заводит оркестрик задорную камарилью «Wo die Zitronen blühen», насыщая стерильно-прогорклую атмосферу звонким смехом вальсирующих парочек!
– Что это? С ума вы спятили?! – всплеск рук совсем Фридин, но как-то манерен, полу-изящен, словно искусно подделанная копия, либо же сырой, далёкий от окончания, шедевр. – Вставайте же немедля – пол ледяной! Сейчас кликну сиделку!..
Убогая, вечно будто спросонья, молчунья Фрида приписана ко мне – можно бы, понятное дело, и свыкнуться – но… Похмелье аллергика! Отвечаю, что, дескать, так уж и быть, ваша взяла: не премину подняться, только в обмен на клятвенное заверение, что сиделке до поры сюда вход заказан.
Пробуждение язвительной словоохотливости, причём одновременное в нас двоих.
– Доброе утро! Нечего скрывать, мне отрадно лицезреть вас здесь, доктор Стиг, – кисло замечаю, поднимаясь с его помощью, – знаете, что я надумал? Хочу завещать вам все эти бумаги, которые можете вы лицезреть здесь во множестве, чтоб вам, когда придёт час несчастному Лёкку покинуть этот свет (а это, видимо, не за горами), пустив их с молотка, обеспечить себе безбедное существование.
Стиг, с таким же кислым жеманством:
– Очень любезно с вашей стороны…
Стоим, глядим друг на друга неотрывно, упражняемся в ужимках, думаем каждый о своём, но, наверное, и об одном и том же… Вне сомнения, возбуждающий любопытство человек, этот Стиг (есть такой сорт людей, заставляющих задумываться!), и на вид также: вовсе без бороды и прочей растительности – даже без бровей! – да и голову выскабливает наголо, до известного матового ровного блеска, а кожа лица – бледная-бледная, как у покойника, даже с какой-то противоестественной синюшностью… Но губы розоватые, поразительно приятного здоровья, и всегда узки, плотно сжаты, будто бы хранится за этими губами, помимо зубов и языка, и некая тайна! А глаза… право, что за замечательные глаза! Глубоко посаженные, топкие, полу-холодные… цвета собравшегося истаять, но никак не тающего, снега. Глаза врача, копающегося в полном двусмысленностей дамском ридикюле; глаза своенравно-испытующие: дескать, madame, что изволите скрывать от меня? Возраст? Собственный… либо того, наградившего вас… гм… интересным недугом?
– Так отчего вы словно воды в рот набрали? – с хмурым любопытством утюжит меня взглядом с ног до головы. – Объяснитесь… Я начинал думать, уж не случилось ли чего…
– …Необратимого? – помогаю, и далее: – Пустое! Никчёмные переживания! Лёкк спал, неужто не видно?!
На сизом лице – безжизненные тени, острый нос царапает наэлектризованное пространство, замечательные глаза пытаются задержаться на какой-то из моих глубокомысленных морщин, но то и дело соскальзывают.
– Спали? – смотрит сквозь меня и, то ли облегчённо, то ли обречённо, вздыхает. – Непривычное местечко избрали ложем…
Ни об атмосфере на Юпитере, ни о Френсисе Дрейке, ни о Городе Солнца, ни о чём подобном с порога от меня слушать ему не приходится. И чуть смягчается тон его, трогается музыкальностью и практичностью усталого циркача в отставке.
– Чем же не ложе! Моё-то, извольте: несвежее и сопит; кажется, оно нездорово, у него насморк…
Ну же, ну…
Вот… отлегло от сердца и у меня. Только-только дребезжал натянутой до предела, готовой лопнуть, струной, теперь же… сходит холодный пот, и стремительно стынущая кровь – прочь от висков, былой тревоги и след простыл. Он здесь, визит официален, ничего нового: ни за что не забежит мимоходом, в каждом действии, пусть и в наклоне головы, налёт церемониальности, многозначительности – он и теперь, спускаясь ко мне с небес, упрямо размышлял, и терновый венец морщин на высоком лбу так до конца и не разгладился. Что-то происходит, что-то, к чему отчаянно прикладывает он свою нерастраченную в глуши вдумчивость, и никак не может позабыть…
– Сопит? – разменяв крупную купюру нетерпения на пригоршню хладнокровия, он предельно задумчив, сосредоточен. – Поскрипывает, словом…
Демонстративно плюхаюсь на тахту.
– Полюбопытствуйте… – и тут же вскакиваю возмущенно, будто бы невыносимо мне сидеть так, и будто бы нет никаких забот у меня, кроме как слушать стоны дурацких пружин.
Молчание – гнетущее, неуютное…
Вдруг приближается, подступает вплотную, испытующе сурово, с гармошкой на переносице, приглядывается. Затем, ни с того, ни с сего… – бух! – неприветливо тяжёлой ладонью фамильярно стискивает моё плечо.
– Вот что, друг мой, – он твёрд, бесстрастен, – давайте начистоту. Оставим выяснения, отчего вылёживаете вы на полу, а не там, где положено, на кровати, и отчего целую ночь провалялись в дверях, где были обнаружены Фридой. Потолкуем о более глобальном, о чём я давно думаю. Вам, верно, что-то не по душе здесь, вы голодаете, кричите и протестуете, в общем, держите себя – как бы это выразиться… – бестактно, а о постоянных нарушениях вами покоя соседей я уж и вовсе промолчу. Что это – упрямство? несогласие? вредность? – как назвать?! Вот и теперь, будьте любезны… игра в молчанку: пыжитесь что-то, рисуетесь себе – для кого? для чего? – изображаете графа Монте-Кристо, Чайльд-Гарольда, и чёрт знает кого ещё, вместо того, чтобы ответить на простой, ни к чему не обязывающий, вопрос. Невежливо, знаете ли, и кроме того, странно – будто бы спрашивал я нечто из ряда вон! Но ведь вряд ли, в самом деле, только скрипучая кровать (которую мы, конечно же, исправим – не сомневайтесь!) способна была стать поводом к вашей вселенской тоске! Быть может, в доверительной беседе стоило бы открыться, что не так, что беспокоит и так далее, и я бы постарался что-то сделать для вас, как-то улучшить ваш быт ли, сформировать более приятное меню по вашему вкусу… словом, сообразно тревожащим вас заботам подобрать приемлемое всем, и вам, и мне, решение…
Неожиданность плюёт в лицо… Ошарашенно хлопаю глазами: обращался он ко мне прежде по-свойски, добрым пастырем к заблудшей овце, любящим всепрощающим чадом? Прохаживаюсь взглядом по элегантному серому костюму, выутюженным стрелкам, задерживаясь особо на кроваво-красного шёлка шейном платке и бриллиантовых запонках: мыслью в моём рассеянном виде, верно, и не пахнет. Замешательство порождает в противостоящих глазах странную вспышку – не злорадства ли?
– …Видите ж вы, – продолжает неожиданно напористо, – (а это невозможно не видеть!) как благостно настроены мы, – проводит свободной рукой круг в воздухе аккурат перед нелепостью моего образа, – все мы здесь, в нашей «Вечной Радости», по отношению друг к другу. Каким терпением проникнуты и слова, и дела наши. Что это… что шумит там, в коридоре, за белой дверью, на лестницах, в столовой и в парке… Слышите? – сжимает моё плечо сильнее, вонзается взором мне в глаза. – До-ве-рие! В доверии нужда всем! Как в воздухе, как в маяке во тьме… Все алчут тепла, а как, каким образом, где обрести его? В обществе, в семье! Этого и хотим мы, вот наша цель!..
Прихожу в себя. Нутро жжёт нелепица напыщенности словес и оборотов, блик утреннего солнца на зеркальной лысине, лукавая тягость момента…
– …Границы между персоналом и постояльцами разрушены, бессмысленные порочные границы, в дверях нет замков – никто не услышит больше здесь скрежет запираемой двери!
«Вырезаны замки, но задвижки… задвижки снаружи так и остались – на всякий случай…».
– …Но мы хотим… – переходит на священный, но всё ж изуверский, шепоток. – Я хочу – ответного расположения! – и тут же довольно чётко, увесисто: – Наивно ли желание? Возможно… Отчаянно ли? Да, чёрт возьми!
«Отчаяние говорит этими устами? – размышляю. – Вот ещё! Ха-ха! Но отчаявшиеся святы и, конечно же, безумны где-то; не шаманы они, и не чернокнижники, но и аскеза чужда им также… А этот?».
– …И что же каждый раз получаю ответом?! – видя юркающие по лицу моему блики мыслей, Стиг воодушевляется. – Что получает ходящая за вами, как за младенцем, Фрида?!.. Что? Неприязнь… даже не равнодушие! Вот и теперь, точно бедный родственник, топчусь за порогом, предоставляя вам собраться с мыслями, привести себя, так сказать, в порядок… хотя мог бы…
«Нет, не отчаяние, и… вовсе никакое не чувство – текст! Машинописный, с помарками, опечатками, близкий к жизни, и отстоящий от неё, и всё-таки – не жизнь, даже не подобие. Текст! Писанина! Графоманство!».
– …И ответить-то не удосужились, не то чтоб открыть!
«…И словно речитативом, как в ораторе, схоласте, в нём этот выпестованный, выношенный загодя текст».
Пора была уже что-то сказать, и я спрашиваю, икнув:
– Вы будто бы затаили обиду?
– Обиду?! Да, если хотите, да! Я – такой же человек, отчего не могло бы меня что-то задеть?! Признайте, ведь всё здесь сделано и существует для вас, и даже замков в дверях… кхм, нет…
– И с этой обидой явились вы в номер, оплачиваемый дочерью моей по таксе люкса в «Плазе»…
– Речь не об этом, Лёкк! – смутившись, но нарисовав подобие искреннего возмущения, обрывает Стиг.
– Разумеется, не об этом – не о комнате, не о столе, не о холодном кофе и пылающей печке; и не о бытии, и не об исходе, конечно… Как можно! Но… вот что, доктор Стиг: лучше б были замки в дверях, и лучше б запирались исключительно изнутри они, и лишь один ключ существовал в природе, без каких бы то ни было дубликатов, и лежал бы этот ключик, – хлопаю себя по нагрудному карману, – здесь – и тепло, и надёжно…
Смущение, если и впрямь это было оно, мигом минует.
– Вот оно как! – произносит он деловито и, кажется, заинтригованно, и плавно качает головой. – Что ж, непременно внесу чаяние это на ваш дебет, а будет оно удовлетворено, либо нет… Однако чего же вы ещё хотите? – пожимает плечами. – Какие вообще могут быть желания у человека, живущего… на полном пансионе? Что за неосуществлённые возможности в равнодушии?..
Морщу лоб: коварен, опасен этот Стиг, – бухгалтер от Гиппократова семени, – хоть бы и так, но он добивается своего…
– Смелей, смелей! – бодро трясёт он моё несчастное плечо. – Я слушаю, и, обратите внимание, даже припрятал хронометр…
Желания? Возможности? Вот вам желания, и вот возможности:
– Откровенно говоря, милейший Стиг, и не чаял я лицезреть вас, несомненно, приятного сердцу моему человека, по такому куцему малозначительному поводу, – замечаю. – Поначалу, признаться, я едва слышал вас из-за двери – оно и понятно, ваш голос больше вкрадчив, нежели гулок, волнующ… Но осмыслив, кто за дверью… уверовав в это, как в чудо воскрешения… стал думать я, что не иначе анализы мои вдруг ни с того ни с сего обрадовали вас, либо профессору Фрейду во сне привиделось лекарство от хвори моей, и вот вы спешите поделиться со мной столь… безрадостным для меня (а, быть может, и для вас – кто знает!) известием. Логично было бы подумать с вашей стороны, что сей факт как раз-таки и лишил меня дара речи – оттого, собственно говоря, не случилось мне тотчас же засвидетельствовать вам глубочайшее своё почтение.
…И глаза потухли, лоб тускнеет – Стиг отступается… На время, конечно.
– Не знаю, как и реагировать на ваши слова, – проводит ладошкой по шарообразной лысине, – трудности понимания, должно быть, всё ж вы иностранец… Впрочем, любому культурному человеку известно, что профессор Фрейд – психоаналитик, и не имеет никакого отношения к…
– …К растениям и овощам, – прерываю его блестящими познаниями в собственном его родном наречии. – Да-с.
– К растениям и… – задумчиво повторяет он, и вдруг ласково-нетерпеливо: – Каким ещё растениям, каким овощам!?
– К госпоже Розенкранц, например, или к старому Хёсту, мешком лежащему за стенкой с открытым настежь, куда иногда залетают мухи, ртом – чем не растения, а?! Вот вы, господин Стиг, захаживали к соседу сегодня? Что если он уж мёртв, и завонялся?!
– Вот же вздор! Господин Хёст жив, это точно! – возмущается Стиг вполне себе уверенным тоном, ужасно растрескав зеркало лба.
– О, стоит ли быть уверенным?!.. Той неделей, аккурат перед Родительским, не имел чести лицезреть я разлюбезной Фриды трое, холодных и бессердечных, суток, и был предоставлен сам себе. Что если и Хёстова сиделка, фрёкен Андерсен, не кажет носа к тому? Всегда ли молодке по душе соседство со старичьём?..
Стиг, смутно-недоверчиво:
– Это работа её, долг, в конце концов…
– Долг, долг… – разумеется. Всё преступив, всегда следуем мы долгу… Всегда ли? Вы молоды, ну, почём вам знать определённо? Подумайте: быть может, и впрямь не было её… К чему так легко отторгать вполне возможную вероятность? Скажу вам и так, милый Стиг: вероятность отчётливую, близкую к истине; всё ж таки господин Хёст – сосед мне, и непременно б слышал я, посещаем ли он – двери здесь, знаете ли, поскрипывают, а стены тонки.
– Вот ещё…
– А госпожа Фальк?!
– Что госпожа Фальк?.. – как будто вздрагивает он.
– Где она нынче?! Добрую неделю или того более её уж не видно – не слышно. Уголок её за столом пустует – когда такое было?! Впрочем, чему тут удивляться…
Блуждающий взгляд доктора, окаменев, останавливается на моём лице – обсуждать вдову Фальк он явно не намерен; довольно и недвижимого, вероятно покойного, господина Хёста.
– А вы – озорник, Миккель Лёкк, – напряжённо улыбается он, по своему обыкновению, одним, на сей раз левым, уголком рта, даже не разомкнув ставших чуть менее розовыми губ, – но не кажется ли вам неуместным шутить подобными материями?
– А делать их источником прибытка… – отзываюсь.
Он разводит руками.
– Грешно, грешно… Хорошо, принимаю это за метафору, иносказание – удовольствуйтесь этим и будет! Выходит так, что оба мы в несомненном ущербе.
Слегка киваю:
– Наверное, наш ущерб и рядом не стоит с неудобством Хёстовым…
И что же: мы приходим к согласию, мы заодно? О, в спешке сокрыто злодейство – так что не спешите… не спешите, господин торопыга! Впрочем, мудрости и ему не занимать, он сам мог бы поделиться с кем угодно…
Устав ждать приглашения, ступает внутрь – высокая сухопарая фигура кажется здесь, у меня, инородным телом, извне занесённым в здоровую плоть вирусом. Обходит комнату по часовой стрелке, задумываясь у картины, у кровати, подле шкафа – оценивающий собственное творение скульптор (а ведь меблировка и впрямь – дело лишь его дрянного вкуса), ни дать, ни взять; любуется чудным видом из окошка; затем, взяв единственный мой стул, ставит его спинкой к окну и присаживается непринужденно, закинув ногу на ногу – король на собственном престоле. Далее – великодушно-небрежный жест по моему адресу: дозволяю покамест садиться, дескать. Будьте любезны, я не горделив, усаживаюсь на кровать: та вновь жутко скрипит, а на лице доктора – ни следа забот. Не минуло и нескольких минут, как всё схлынуло и морщины на его высоком выпуклом лбу разошлись, как грозовые тучи. Сидим, смотрим друг на дружку, синхронно хлопаем глазами…
Доктор делает вдох и открывает рот…
– Вы не хотите, всё же, узнать о господине Хёсте? – опережаю.
Выдумка – решил уже он, и довольно с этим!
– Ну, вот что, друг мой, – деловито и раскованно начинает он, – признаться, вовсе не о том я хотел говорить, не о быте, не о сёстрах… И о моих постояльцах – довольно, слышите! С иным намерением здесь я, но своим положением вы меня просто-таки огорошили… Гм, ну что ж… Странно: я стал куда больше терзаться, и покой некоторым совершенно бесцеремонным образом покинул меня. Причиной тому – вы, Миккель Лёкк. Изучаю вашу историю, это, можно сказать, стало моим настольным чтивом…
– Гм, верно ли слышу? Историю? Что же за мной за история? – не отказываю себе в удовольствии вставить словечко. – Не болезни ли?! Что ж за недуг мучает нас: капустница, плодожорка?..
Стиг, с необычайной лёгкостью отмахнувшись:
– Ну, биографию, судебные протоколы! Профессиональная оговорка – разве это имеет значение?.. Так вот, позвольте узнать у вас одну вещь?
Усмехаюсь, тут же напоминая ему, что он… как говорится, несколько поспешил:
– Это относится к истории болезни или собственной моей истории?
– Скорее к последнему.
– Тогда, скрепя сердце, вынужден отказать вам, милейший Стиг. Если в судебных актах вы ещё можете покопаться – всё же они в общественном достоянии – то в остальном… Впрочем, проживите ещё некоторое время после меня, сохранив интерес к моей персоне…
– Что же тогда?
– …И тогда, без сомнения, сможете прочитать многое, что вас интересует, в энциклопедии.
– Но всё же, – кривится, – в качестве приватной беседы, tête-à-tête…
– Приватно я всегда беседовал исключительно с дамами…
Даже и глазом не дёргает:
– Вы – русский, и покинули вашу родину после… как это у вас там называлось? – после Революции… – не слишком, видимо, привычное для него слово коверкает он неимоверно дико, как-то вроде «Разколюции» или «Проституции», так что мне немалого труда стоит понять, – …покинули, и оказались в Швеции, затем в Норвегии; здесь вы обрели славу, почитателей. Истинно, многие читали вас здесь, многие, даже споря с вами, любили (и я сам, скрывать нечего, был заинтригован), вы обладали всем – богатством, любовью, признанием – всем, о чём иной может лишь грезить! Но вы… – невозмутимые черты вновь слегка обостряются, – …вы презрели всё это, вы не были благодарны судьбе. Поразительно: обладая известностью, вы не вели публичной жизни, будучи состоятельным – не тратили, блуждали во власянице по пустыне вместо того, чтобы разъезжать в золотых каретах. Да, Лёкк, не настолько много лет мне (хоть меня и трудно назвать мальчиком), и не испытал я ещё тех злоключений, что испытывали вы некогда, оставляя родную страну против воли, но всё же, хотите верьте, хотите – нет, я всегда хотел одного – задать вам этот вопрос, всего лишь. Порою, мне снилось это! Поверьте, я редко вижу сны, и вообще не столь впечатлителен, но это… Это мучило, изводило.
Смотрю пристально: лицо приторно-холодное, почти неизменное, что бы ни происходило, – ни дать, ни взять, пускающая пузыри в банке рыбёшка, – и Фрида-то смотрится живее, даром что немая немой. Вот упоминает о сне своём он, о своих, кажется, сокровенных желаниях, о боли, страстях, безэмоционально, ничтожно, не смущаясь, не потупя взора, словно бы мельком пробежав по газетной передовице, лишь изредка, как в обыкновении у него, скашивая то правый краешек рта, то левый. Что за конфуз! Конфуз ли это? Спонтанность, либо сознательное заигрывание с морщинками в уголках розовых губ?
И я спрашиваю, пожимая плечами:
– Вы хотели расспросить меня о Революции?
– Ах, Лёкк, – многозначительно вздыхает он; вздох этот открывает степень его изрядной осведомлённости, – я откровенен, и от вас хотел бы взаимности – что тут невыносимо тяжкого? Мне нет нужды знать, отчего пришлось покинуть Родину вам – из-за бытового неудобства ли, либо вследствие несоответствия ваших политических взглядов новым реалиям (и такое тоже случается, отчего нет!) – ведь там нынче… как это?.. большевизм. Оставьте при себе это, тайной души, если хотите. Вопрос мой прост: отчего таков Миккель Лёкк? Не перекручивайте, вы всё прекрасно поняли. Да, отчего?! – он вдруг всплескивает руками, размеренной, слегка нервной густотой насытив голос. – Отчего, чёрт побери, будучи читателем вашим, я увидел вас воочию лишь тогда, когда вы оказались в моём ведении в этих стенах?! А до тех пор… хм, до тех пор я и знать не знал, реальны вы иль нет, так, всего лишь тень, плод воображения. Будь знаком с вами я прежде, будь уверен, что читаю живого человека, зная историю вашу, видя лицо, я бы куда охотнее расставался со своими кровными, понимаете вы?! Я бы…
Не сдерживаюсь и холодно обрываю:
– Полагаете, это вопрос медицины, практики? Высокий Королевский Суд пытался повесить на меня ярлык безумца исключительно за то, каков я есть от рождения до сих пор – доказывали, опрашивали свидетелей… и так далее – но, смилостивившись, доказал только мою недееспособность. Вы тоже хотите попытать счастья? Впрочем… – пристально вглядываюсь в него, – Погодите, погодите: с каких пор «Вечная Радость» – прибежище умалишенных?
Небольшой тактический маневр:
– Нет-нет, Лёкк, и я также полагаю, что медицина здесь не причём…



