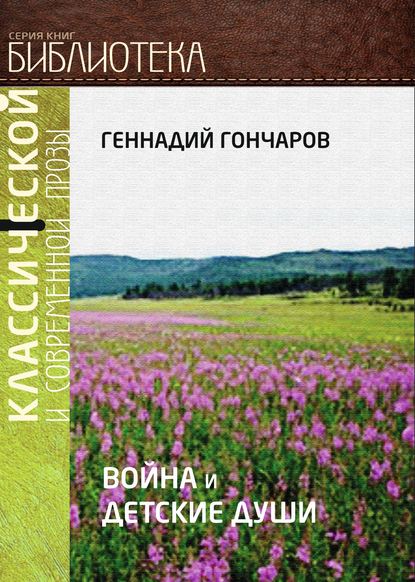Полная версия
Желтый Эскадроль
– И то верно. Уничтожили бы вы одну машину, мы бы потратили еще пару лет на строительство такой же, а вашего движения бы уже не было. Он это понимал. Поэтому решил сам уничтожить нас с помощью этой машины. Довольно хорошая идея. Да и к тому же у вас действительно не было никаких других возможностей. Это ваше зеленое чудо будет долго обсуждаться в трактирах и светских салонах. И кто вообще придумал вашему движению эпитет «зеленый»? Мой любимый цвет испохабили. А впрочем, вы могли бы и подумать над этим сами. Громадный город-фабрика, производство секретного оружия, восстание «зеленых» повстанцев… Зачем? Гробить все движение, чтобы уничтожить одну машину? Если Катилина и правда был умным человеком, то он понимал, что такая игра – банальный фарс. А вот завладеть машиной и попытаться с ее помощью захватить власть, или хотя бы ослабить нас – это уже красиво, хоть и смешно. И в любом случае безрезультативно. Убил бы Катилина несколько тысяч солдат, но что бы сделал с сотнями миллионов по всему Эскадролю?
– Откуда ты так хорошо его знаешь? Он служил в Фонде, пытался добиться власти во имя своих целей. Вы там встречались?
– Я его не знаю. И в Фонде я никогда не служил, это лишь чистые догадки. Но зато у меня есть кое-что от бывшего фондовского агента, – я, как мог, улыбался голосом.
– О чем ты?
– Об одной безделице, которую он непонятно для чего взял с собой вчера, – я подошел к углу, куда заранее, как зашел, положил два предмета. Одним из них была обычная толстая тетрадь светло-красного оттенка, я поднял ее. А после я сделал то, что пленница совсем не ожидала. Включил электрический фонарик, который все это время спокойно висел у меня на поясе.
– Эй! У тебя все это время был свет, и ты его не включал? Идиот!..
– Ох, не сердись, я тебе почитаю сказку на ночь, – я улыбнулся своей саркастической улыбкой и навел фонарь на лицо, дабы улыбка, наконец, была замечена.
– Что это у тебя в руках? – она кивнула головой на тетрадь, щурясь от света.
– Дневник Катилины. Он не зря взял его, знал, как все может кончиться.
– Ты не имеешь права читать его. Это же частная собственность.
– Имею. Владелец собственности проигравшего – победитель. Ты не чтишь эскадрольские традиции? Они ведь важнее понятий об имуществе.
Милославская молчала с надменно-отрешенным лицом. Теперь, в тусклом свете, ее лицо можно было подробно рассмотреть… но я не стал и опустил взгляд на тетрадь. Не хватало еще мне смотреть на этого смертника. Пусть ее истинное лицо останется для меня загадкой.
– По нашим традициям и ты теперь моя собственность. Пленник – собственность пленившего. Все еще молчишь?
– Вы же отменили рабство? – заметила она без интереса.
– А ты сейчас не человек, ты предмет, – я довольно оскалился. – Итак, дневник. Катилина писал редко и мало, но некоторая информация до нас должна была дойти, – я весьма небрежно пролистал до середины.
– «Как они мне надоели! Как я от них устал! – пишет Катилина. – Фонд оказался совсем не той корпорацией зла, которую я рассчитывал найти в этом окутанном легендами конспирированном учреждении. Это не корпорация, это балаган! Невозможно поверить, что эта секта сумасшедших может управлять нашим пространством. Хотя она и не управляет. Все задания, которые я получал и о которых мог узнать, содержали в себе что-то вроде «подготовки лесной поляны к императорскому прибытию», или «опрос населения насчет работы газеты Администрации», или совсем нелепое «закупка необходимого оборудования в Музыкальный Дворец». Они просто поручили моему знакомому обратиться на рынок поставщиков за всем необходимым и заказать это частным образом. Нонсенс! Так не может работать механизм! Единственные важные задания связаны по большей части с войной, делами генералов, разведкой и прочим, но их обслуживает узкий круг доверенных лиц. Как я понимаю, легче было работать с обществами капиталистов, ибо они имеют больше настоящей власти.
Иерархии в Фонде нет. Все агенты Фонда являются друг другу «братьями», что мне невероятно претит. Я здесь уже почти год, но ни единственного хода наверх не нашел. Фондом на правах учредителя и исполнительного директора руководит лично император…» – черт, он написал его с маленькой буквы, презренное ничтожество! – я от злости почти кинул тетрадь Милославской в лицо, но вовремя остановился. Судя по ее внимательным голубым глазам (жалею, что их все-таки заметил), она внимательно слушала и испугалась.
– Ладно, продолжим, «…и нет никакой возможности пробраться выше. Хотя мне, конечно, ясно, что Фонд прячет много важного на нижних этажах. Туда пускают лишь доверенных агентов, а у меня нет никакой возможности туда попасть. Доверенное лицо должно получить поддержку учредителя. Что там может быть? Тайные хранилища? Пыточные камеры с преступниками и изменниками? Древние библиотеки? Золотой запас Эскадроля? Я так и не выяснил.
Несмотря на муки неожиданно появившейся совести, я продолжаю смотреть на лживое и циничное название «Фонд Управления и Спасения» и быть таким же лживым и циничным, ибо лицемерить сейчас выгодно…» Заметь, Милославская, чтобы пробраться выше во власть, нужно спуститься вниз.
– Катилина никому не доверял, – проговорила Милославская после нескольких мгновений тишины. – Вокруг него образовался большой и тесный круг людей, которые верили ему почти слепо, но он считал их чужими. Вместе они сделали многое для сопротивления вам и для нападения на Централис, но сердце его было одно. Мы все знали, почему он служил в Фонде, что он пытался пробиться там к власти и оттуда изменить мир. Ему не удалось. Он имел право быть внутри таким грубым циником, потому что он окупал это своими делами.
– Ты все еще веришь ему, дворянка, пусть в твоем голосе и прибавилось грусти, – я некоторое время листал дневник, бегло вчитываясь в слова, доходя до сегодняшних событий. Писал он мало и больше о своих переживаниях, нежели о фактических событиях. Ни слова о подробностях устройства восстания написано не было.
– Я бы не сказала, что верила ему, как остальные в руководстве движения. Я смогла увидеть его темные стороны и работала с «зелеными» как со структурой, а не как с центром Катилины.
– Но сам он доверял тебе важные дела?
– Да, я же сказала, что была в руководстве.
– Тогда почему дознаватели не смогли выбить из тебя информацию о том, как вы проникли в Централис? Сюда нельзя просто приехать и поселиться!
– Я же все им рассказала.
– Ты сказала, что четыре тысячи человек накачали снотворным, а проснулись вы уже здесь. Ну как можно придумать такую глупость? – я твердо решил, что люди, покинувшие органицизм, могли врать.
– Все просто, я ничего не придумала, все так и было.
– И это все, что ты скажешь? Ты понимаешь, Милославская, что это единственный вопрос, который мне интересен? Все остальное было лишь легким увеселительным диалогом.
– Я понимаю. Да. Но я просто проснулась уже внутри проходной. Вот и все, – беззаботная речь, смешанная с иронией уже моего уровня, вновь начинала меня бесить.
– Проходная фабрики – это громадный ангар на высоком холме, который охраняют сотни людей, и ты не знаешь, как ты туда попала?
– Ты понимаешь, Танский, еще даже суток не прошло, как мы оказались в ангаре и имели великие надежды на победу. И к чему все привело? Ты видишь, да?
– Да, теперь я могу тебя видеть, пока батарейки не кончились, – я разочаровался в ней, она ничего не знала, и вся эта затея с вырыванием из рук Фонда одного пленного оказалась бессмысленной.
– Но почему-то совсем на меня не смотришь.
– Твое лицо не запомнит мертвая история. Его не запомнят люди и даже твои родители, если они правильные органицисты. И я тоже не хочу запоминать его. Фотографии было достаточно.
– Но ты запомнишь мой голос и эту ночь, которую мы так хорошо проводим?
Эта невероятно мерзкая шутка чуть не заставила меня сейчас же выхватить палаш и начать ее рубить. Вместо этого я просто начал читать.
– «Десять утра. Мы заняли ангар, который здесь называют проходной, и укрепились в нем. С нами бывший полковник Эскадроля, он существенно помог нам с оружием, и мы практически ни в чем не нуждаемся. Ждем специальные отряды, которые отправили за инженерами города, – к лифту, который ведет вглубь фабрики, путь преграждают огромные ворота в сорок аршин высотой. Для того чтобы открыть их, нужны знающие люди. Чудо, как они построили такие ворота в настолько малые сроки. В воздухе пахнет надеждой на победу, хотя этот запах все больше оттеняется запахом гари. Эскадроль решил разрушить ворота, ведущие в проходную. Они такие же массивные, и мы хорошо заперли их изнутри. Эскадролю понадобится часов восемь, чтобы разорвать ворота даже мощнейшей артиллерией. Усталость прошла, я бодр, счастлив и спокоен.
Одиннадцать утра. Вся верхушка движения забралась на смотровой балкон, он почти под самой крышей, и отсюда видно всю проходную. Ее размеры поражают и не поддаются описанию, хотя нам известно, что потолок здесь около пятидесяти аршин. Здесь очень темно, окон в проходной нет, везде видны лучи немногочисленных фонарей. Своих людей, а нас здесь две тысячи, я едва различаю внизу. Специальные группы задерживаются. Стена, прилегающая к двери наружу, оказалась весьма хлипкой, и в ней уже виднеются небольшие просветы, оставленные снарядами артиллерии. Час дня. Инженера привели! И кого, самого Кайзенова!
Оказалось, что все специальные группы были уничтожены, но ценой многих людей этого инженера удалось захватить. У него кровные связи с уничтоженными народами, и он работает на Эскадроль, видимо, только ради славы и денег. Оппортунист. Я думал, что он малодушен и слаб, с такими-то принципами, но он наотрез отказался открывать ворота. Пришлось физически воздействовать. Ворота внутрь проходной почти разрушены, но и ворота к лифту вглубь фабрики сейчас почти открыты. Чувствую, что сегодняшний день хорошо кончится…» Это последняя запись. Вероятно, он умер через час после этих слов.
– Я не видела смерть Катилины, но уверена, что в ней виноват Кайзенов. Этот мерзкий дряхлый старик постоянно высокомерно ворчал и говорил, что нам отомстит.
– А что за «физическое воздействие»? – с иронией спросил я, ибо методы у «зеленых» были грубее наших.
– Почти всех выгнали из помещения, куда привели Кайзенова. Когда мы снова увидели его, белый пиджак и седая борода старика были забрызганы мелкими каплями крови, и он сильно поник. И пошел открывать дверь.
– Я не видел смерти Кайзенова, но уверен, что он был счастлив умереть за Эскадроль. В конце концов, смерть притягательна и уводит в неизведанные миры… Катилина думал, что Кайзенов слаб, а он был человеком идейным и верным. Ученый решил, что его старый народ жалок, а эскадрольцы ведут мир по пути прогресса и величия.
– А как умер Катилина?
– Его убила машина. Но я не видел, мне лишь передали. Эх, ладно. Мне действительно надоело, – я отбросил дневник сбоиста и вновь зашагал по камере. – Катилина написал, что наш бывший полковник помог вам с вооружением. Первый «зеленый», который был убит на моих глазах сегодня, был с пневматической винтовкой. Пневматической! Это говорит об ужасном уровне подготовки, об ужасном уровне снабжения, об ужасной организации и ужасном сознании ваших достопочтенных «зеленых» братьев. Почти все, кого я видел, страдали от отчаяния и грусти. Но не оттого, что проигрывают, а оттого, что заигрались. Эскадрольцы – заигрались. Они думали, что страдают от отсутствия органики и идут против нее, а они заигрались, ведь эскадролец инстинктивно волен надевать любую маску. Только вот эти единицы потеряли ощущение самого главное – истина не имеет смысла без общественных ценностей. Лишь вместе мы побеждаем. Они, ныне уже трупы, трупы от своей врожденной глупости, поняли это в самом конце и раскаялись перед собой. А ты нет. И это останется на твоей совести даже после смерти. Но ты вот что скажи мне: разве можно убить человека пневматической винтовкой?
– Откуда я знаю? Я вообще не занималась этим вопросом. А совесть моя, как и все остальные чувства, давно истлела. Органика способствует…
– Нет, скажи, как ты думаешь, такой винтовкой можно кого-то убить?
– Понятия не имею, лично я никогда никого не убивала. Может быть, если выстрелить в глаз, то пуля достанет до мозга.
– Там даже не пули, там пульки. Но мне нравится твой ход мыслей, – я опустил фонарик и медленно прикоснулся слегка дрожащими пальцами в белой кожаной перчатке к ее щеке. Холод ее кожи чувствовался и через перчатку.
– О чем ты? – кажется, она начала что-то подозревать. И зачем-то улыбнулась. Эта ее улыбка вновь показалась мне невыносимо мерзкой.
– Чтоб тебя!.. Все-таки улыбнулась! Все-таки не понимаешь игру! Мерзость! – в три резких движения я отошел, разочарованно поднял руку к потолку, а потом приложил ее к лицу.
– Готова поспорить, что перчатка у тебя из человеческой кожи. Какой-нибудь ликонской девочки, которая тебе не улыбнулась.
– О, разумеется. И кожу для перчатки я срезал с еще живого тела. Благо, что я не вижу сейчас испуга в твоих глазах от неожиданно серьезной моей интонации. Только не пытайся так же мило улыбаться теперь, ты не в том положении, дорогая моя. Ты слишком упряма и самолюбива, а я не люблю упрямых.
– А если не любишь упрямых, значит, ты сам упрямый, генерал.
Я вновь хотел несколько минут помолчать, но эта «традиция» мне уже надоела.
– Тогда пора заканчивать.
– О, если ты закончил, то мы можем пойти на эшафот. Или к стенке. Куда угодно. Да, я боюсь, но я готова, будь уверен, – ее голос действительно давал понять, что она уверена. Будто бы и не было в нем того страха, о котором она сказала. Вероятно, ее следовало уважать, но я лишь ждал разрешения этой ситуации с очередной пешкой. – Когда-нибудь и ты умрешь, Танский. Быть может, твоя жизнь будет настолько насыщенной, чтобы понять, в чем ты ошибся.
– Моя смерть – процесс естественный, а твоя – необходимый. Ты хороша, Милославская. В иных обстоятельствах от тебя была бы польза. Но наше знакомство сейчас завершится, и не так, как ты думаешь.
– А как же? – в ее голосе чувствовалось веселое напряжение.
Я подошел к углу, в котором до этого взял дневник. Вторым предметом, который я принес в камеру, была та самая пневматическая винтовка, что стояла, бережно прислоненная к стене. Я взял ее и начал рассматривать.
– Винтовка неплохая, если думать о внешнем виде. Красивая. Вероятно, красивая, как и ты, но я тебя не видел.
Мы усмехнулись одновременно.
– Пружинно-поршневая система, – я продолжал, – такими в тире стреляют.
– Да, и я стреляла в детстве.
– Разве ты думала тогда, что так же закончится твоя жизнь?
– Как – так же?
Она, похоже, действительно не понимала, что происходит.
– Просто. Просто закончится. Тебя не объявят предателем, о тебе не будут говорить, тебя просто забудут. И я надеюсь, что ты сейчас веришь, что попадешь в свой Рай на небе.
Я сломал ствол и вставил в него пульку. Было неудобно делать это с фонариком в руках, но нужен был свет. Я вскинул винтовку и прицелился. В какой-то миг я смотрел на все еще не верящее лицо и думал дать Милославской последнее слово.
– Но ты же не убьешь меня из пневматики! – наконец-то я услышал панику.
– Ты сегодня упоминала сатанистов, Милославская, – говорил я, смотря через мушку прицела, – они никогда не были сатанистами. Лишь чем-то более значимым, чем обычные люди.
– Ты же знаешь, что это слухи и сказки для детей, – ее голос дрожал и нервно смеялся, – их, скорее всего, никогда и не было! Такое не могло жить. Земля бы не вынесла!
– В глаз можно попробовать, – проговорил я тихо вместо ответа.
Она хотела сказать что-то еще, но вместо этого я услышал слабый звук выстрела. В следующий миг она уже кричала с выбитым глазом. Было видно, что она старается прижать к нему руки. Я бы мог посмеяться и развязать ее, но это плохой ход. Целиться стало бы сложнее. Веки ее левого глаза были закрыты, по лицу текли две струйки крови. Она тряслась от боли, неверия и негодования.
– Да чтоб тебя, Танский! И не думай, что я буду просить о милости! Давай, стреляй же дальше, ну!
Теперь ее подгоняла боль. Я прицелился. Лицо дворянки исказило нетерпение. Ей было нестерпимо больно, но она старалась этого не показывать. Милославская желала скорейшего избавления от мук, желала смерти, отчего мне вдруг захотелось бросить ее так на несколько часов. Она продолжала говорить, а скорее кричать, но я ее уже не слушал. Стрельба практически в упор всегда особенно страшна для смертника. Это можно сравнить с лечением зубов – тебе в рот вставляют шприц, а ты ничего не можешь поделать и лишь закрываешь глаза. Вся разница в том, что у нее был закрыт только один глаз. Другой смотрел на меня с ненавистью и ожиданием, но почти уже ничего не видел. Я вновь приставил палец к губам.
– Тсс, Милославская. Не говори и не смотри, все скоро кончится, – она действительно закрыла здоровый глаз.
Выстрел. Нет, и второй выстрел не убил ее, но второй глаз также оказался закрытым навсегда. Она кричала сильнее, но уже не пыталась вырваться, вынося земные страдания как истинная христианка. Все тлен. Екатерина Милославская выглядела очень красиво. Лицо, залитое кровью, искаженное от боли, страха, отчаяния и близости смерти, с двумя красными изуродованными жерлами вместо глаз, вот он – эталон красоты.
Я улыбался, завороженный, но понимал, что пора заканчивать. Я перезарядил, подошел ближе и выстрелил в висок. К этому моменту она уже плохо соображала и больше кричала, нежели говорила нечто членораздельное. После третьего выстрела она сразу затихла, но еще подергивалась. Я выстрелил четвертый и пятый раз – висок превратился в сплошную изодранную поверхность.
Я стоял и с наслаждением смотрел на нее. Милославская умерла, и умерла в мучениях. И это было для меня гораздо приятнее всего сегодняшнего дня. Я вышел из камеры, стараясь ни о чем не думать, но грудь моя была полна чувства восторга от самого факта смерти, которую я произвел так великолепно.
Я прошел коридор с тюремными камерами в относительно просторное помещение для тюремной охраны. Обычно оно всегда пустовало по понятным причинам, сейчас здесь даже горел камин и было тепло. Два офицера в черно-зеленых мундирах встали из-за стола и козырнули. Жестом я приказал им садиться. На их столе лежали карты, горел фонарь, а в стаканах был некий коричневый напиток. Вряд ли алкоголь, в Эскадроле никто не пил, это считается неорганичным. Наверно, квас. Они сели.
– Какие новости от Фонда, господа? Он узнал о нашем секрете? О допросе?
– Никак нет, господин генерал. Но дело ужасно сложное, фондовцы, думаю, в конце концов дознаются, – отвечал один.
– Она действительно последняя? Мог Фонд скрыть других?
– Невозможно узнать, но я не вижу поводов сомневаться.
– Хорошо. Тогда передайте Фонду, господа, что последний повстанец мертв, – я бросил эту фразу на удивление весело, что тут же зажгло улыбки и на лицах офицеров.
– Будет исполнено, ваше превосходительство, – проговорил все тот же.
– Да мы все слышали, – второй был повеселее, – а вам, господин генерал, девица-то понравилась? Может, трупик-то пока не отдавать? – его шутка мне понравилась.
– В другой раз, господин офицер, в другой раз. Тело лучше поскорее вернуть, – я по-доброму усмехнулся.
Я продолжал стоять, задумчиво улыбаясь и глядя в стену, пока первый офицер не достал рацию и, настроившись на волну Фонда, начал передавать сведения. Чертов ФУС портил мне настроение, но он был императорским, я не мог против него идти. Все еще пребывая в экстазе, я беспечно бросил дневник Катилины в камин. Пышное пламя сразу стало пожирать хлипкую тетрадку.
Я посмотрел на нее, затем на офицеров и в хорошем расположении духа стал подниматься к выходу, дабы навсегда покинуть эту тюрьму и навсегда забыть Милославскую.
Вторая глава
21 мая 1821 года, около 4-х часов утра.
За последние несколько лет такой насыщенный день выдался впервые. Я был доволен. На улице застыла теплая весенняя ночь, которая вырезала для меня на небосводе несколько далеких беспечных звезд. Они мертво и холодно смотрели на меня в упор и все же предлагали насладиться своим далеким пылающим светом. Я не осуждал их за их безразличие, ибо и сам, можно сказать, был безразличен к ним. Они далеко, до них не добраться, не отомстить за их насмешливый свет, не воздать им за их вечную непричастность. А если нет, то и не надо. Пусть светят. Мечтатели смотрят на звезды, чтобы получить вдохновение, чтобы войти в столь противное мне романтическое состояние духа, чтобы просто полюбоваться, в конце концов. В Эскадроле романтиков почти нет, это считается неорганичным и общественно порицается, хотя никак и не наказывается. А зачем я смотрю на них? Быть может, в юности, больше десяти лет назад, во мне и было нечто романтическое, но сейчас я ярко сверкаю гладкой отполированной сталью своего состояния. Сверкаю так же, как эти звезды, сам став такой далекой от всех и вся безразличной звездой. И я уже не дам ответ, почему я смотрю каждый раз на небо, словно ищу там отгадки на все вопросы мира, словно от взгляда ввысь все сразу станет понятным.
Мне очень нравится, как смотрит на небо сам Эскадроль. В очень старой императорской речи, написанной более ста лет назад, были сказаны очень красивые и верные слова о небе в органическом мифе. Небо есть истинный органицизм. Вечно стоящее, монолитное, имеющее свои непререкаемые законы и, что самое главное, бесконечное во времени. Оно хмурится, льет дождем, сыплет снегом, посылает ветра и ураганы на землю и грозит градом. Радуется, светит органическим Солнцем, бескрайней голубой далью, нависающей над всеми нами своей тяжелой, совсем уж безэмоциональной мощью. Оно есть и будет здесь всегда. Весь Эскадроль в своем едином органическом сознании тянется к этим словам как к неопровержимой истине. Тянется к небу, вверх, к вечности, к органике, к свободному телу и духу, который может творить что угодно, лишь бы выполнял редкие, но очень важные задачи. Небо будет стоять всегда, и Эскадроль будет стоять всегда. Извне нас совершенно не разбить, воюй мы даже со всем миром. А если сломаемся внутри, то и сломленными разобьем всех остальных. Эскадроль – это небо на земле. Вечное и бесконечное.
Офицеры, для чего-то рассыпанные по площади у штаба, наконец заметили меня, разглядывающего небо, у темных тюремных дверей. Многие быстро спохватились, козырнули, а другие даже начинали аплодировать. Я театрально откланялся всем и помахал правой рукой в знак приветствия.
Я оглядел площадь, щурясь от повсеместного света. Ночь, может, и темна, но по всему плацу у штаба горели прожекторы и яркие желтые фонари. После матовой темноты подвальной тюрьмы каждый фонарь казался органическим Солнцем, которое в шутку выжигает тебе глазное яблоко. Но особенно ярко ослепляли не фонари, а то, что блестело в их свете, – аккуратно собранные в ровные столбики слитки золота. Они были вынесены из штаба еще днем, до того, как здание окончательно рухнуло. Золото пролежало здесь до самой ночи. Централис не Гедонис, жители, не привыкшие к сверкающей ауре, наверняка с гордостью ходили вокруг слитков, дивились их красоте и аккуратно их поглаживали.
Военные вокруг медлительны и малоинициативны, ибо все последствия восстания уже устранены. Рабочие давно начали разбирать завал. Штаб сегодня похудел на все свои пять этажей и представлял собой по большей части груду резных белых камней, колонн, громадных блоков и панелей. Из-под обломков тут и там торчали окровавленные части тел восставших. Всех раненых и убитых солдат я приказал вынести также еще до распада каменного ядра. Я и не думал жалеть о разбитом здании штаба, пусть даже оно и было величественным и красивым. Мне стало противно; подул мерзкий холодный ветер, нехарактерный для теплой погоды, и я поднял ворот военного плаща.
Не знаю, почему я все стоял там, хотя было уже больше четырех часов утра и вскоре должно было светать. День был теплым, да и ночь выдалась довольно хорошая. А я как будто примерз к месту, где стоял. Рабочим было хорошо, рабочие с энтузиазмом, весело, ликуя, на своих кранах растаскивали камни. Я решил, что они сделают это быстро, ибо работали они добросовестно, с приливом моральных сил от поверженных предателей. И рабочие, и офицеры с солдатами, и все свидетели сегодняшних происшествий поверили в Эскадроль и его органику с удесятеренной силой. Можно было различить довольные искренние улыбки на лицах людей, которые сверкали под светом прожекторов. Я тоже, довольно прищурившись, в последний раз оглядел активную площадь, заполоненную людьми, и отправился медленным усталым шагом к вертолетной площадке, где меня должны были ждать. Путь не вполне близкий. Площадка на крыше штаба, как можно заметить, уже была непригодной, а другая была в трех верстах отсюда. Машину я не брал, и никакого сопровождения со мной не было. Захотелось просто прогуляться, и я пошел.