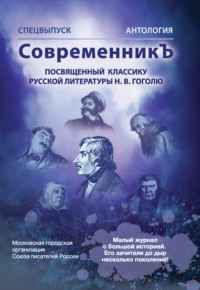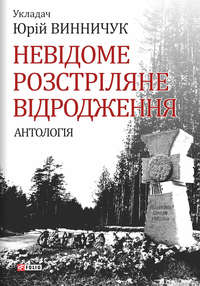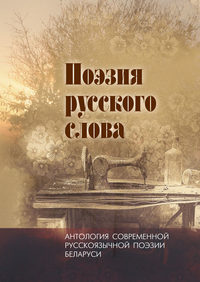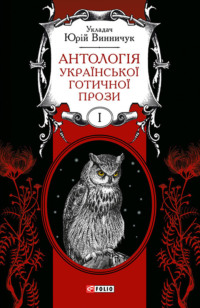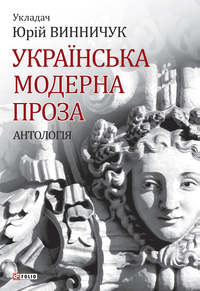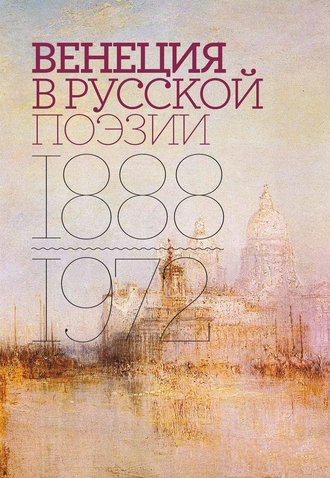
Полная версия
Венеция в русской поэзии. Опыт антологии. 1888–1972
2
Mrs Piozzi. Glimpses of Italian Society. London, 1852. P. 135; цитируется Мильтонов «Потерянный рай». Кн. 4. Стих 639 и далее.
3
Таинства Удольфския. Сочинение Радклиф / Перевел с французского С. Ф. З. <Ф. А. Загорский>. Ч. 2. М., 1802. С. 33–35. См. об этой цепочке заимствований: Tony Tanner. Venice Desired. Harvard University Press, 1992. P. 15–26.
4
Трагедия Томаса Отуэя «Спасенная Венеция» (1682).
5
Richard Doyle. The foreign tour of Messrs. Brown, Jones and Robinson: being the history of what they saw and did in Belgium, Germany, Switzerland, & Italy. London, 1855. P. 65; James Buzard. The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the Ways to «Culture», 1800–1918. Oxford, 1993. P. 115.
6
Arthur Sketchley. Mrs. Brown on the grand tour. London, 1870. P. 133; James Buzard. The Beaten Track. P. 117.
7
Поэзия Московского университета. Кн. 5. М., 2010. С. 163–164.
8
Е. О. [Утин Е. И.] Корреспонденция из Венеции // Вестник Европы. 1866. № 4. С. 77 (паг. 2-я); «Двое Фоскари» – трагедия Байрона, события которой происходят в Венеции в XV веке.
9
Диккенс был в Венеции в 1844 году и признавался: «Я никогда раньше не видел такой вещи, чтоб так боялся ее описывать». Очерк о ней он написал в виде сна.
10
См. воспоминания об открытках из петербургского детства 1890‐х годов: «Ну, что ж, тогда еще не умели печатать ясных глубоких снимков. Все было вытаращенным. И гондола, и столбы-сваи, и мост Риальто – все было резко-дешевым. Канале Гранде есть и на стене. Пожалуйста, вот здесь. Овальная штучка. Металлическая, раскрашенная. И луна. Видите, как отражается на воде мазочками?» (Горный С. [Оцуп А. А.] Альбом памяти / Сост., вступит. ст. и коммент. А. М. Конечного. СПб., 2011. С. 82).
11
Ср.: «Глянцевые легкие гондолы / Реют над старинным шифоньером» (Аксельрод Е. Меж двух пожаров. Стихи разных лет. М., 2010. С. 108).
12
Venice. With 182 photographs in full colour by Fulvio Roiter. Introduction by Stephen Spender. London, 1979. P. 8. Ср.: «Сквозь протекшие годы нередко вновь возникает живое чувство Венеции. Не только попавшаяся в руки фотография может дать к тому повод. Тембр колокольного звона под вечер, звонкий крик стрижа, рассекшего случайно яркую полосу закатных лучей, способны иногда – редко, но с удивительной непосредственностью перенести воображение в венецианскую комнату. Не Венеция ли за окном?» (Грифцов Б. Эстетика Венеции // Среди коллекционеров. 1921. № 10. С. 29).
13
Вагнер Р. Моя жизнь: Мемуары / Пер. Г. А. Эфрона под ред. А. Л. Волынского: В 4 т. СПб., 1911. Т. 3. С. 136–137.
14
Адамович Г. Кузмин // Последние новости. 1936. № 5538. 22 мая. С. 3.
15
Немирович-Данченко Вас. «Перерепенко» и «Довгочхун» в Венеции (Из воспоминаний) // Сегодня. Рига. 1923. № 78. 15 апреля. С. 3.
16
Frederic C. Lane. Venice: A Maritime Republic. Baltimore, 1973. P. V.
17
Микулич В. В Венеции: Рассказ // Вестник Европы. 1901. № 7. С. 474–475.
18
Цивьян Т. В. «Золотая голубятня у воды…»: Венеция Ахматовой на фоне других русских Венеций // Цивьян Т. В. Семиотические путешествия. СПб., 2001. С. 40–50.
19
Ревзина О. Г. Венеция в русском поэтическом дискурсе // Имя: Внутренняя структура, семантическая аура, контекст: Тезисы международной научной конференции. Ч. 2. М., 2001. С. 186. См. подробнее: Ревзина О. Г. Русская поэтическая венециана // Диалог культур: «Итальянский текст» в русской литературе и «русский текст» в итальянской литературе: Материалы международной научной конференции (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 9–11 июня 2011 г.). М., 2013. С. 201–215.
20
В переводе Н. Гумилева: Соборы средь морских безлюдий / В теченьи музыкальных фраз / Поднялись, как девичьи груди, / Когда волнует их экстаз.
21
Уайльд О. Портрет Дориана Грэя / Пер. А. Минцловой. М., 1906. С. 136.
22
См.: Шиллер Ф. Духовидец. Карл Гроссе. Гений. Генрих Цшокке. Абеллино, великий разбойник / Изд. подгот. Р. Ю. Данилевский, С. С. Шик. М., 2009. С. 395–448.
23
Гюго В. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 4. М., 1954. С. 100–101 (перевод М. Лозинского).
24
Théophile Gautier. Italia. Paris, 1852. P. 76–77. И композитор Шарль Гуно писал в 1841 году о ночной Венеции: «Со своей спящей водой, плещущей в угрюмой тишине у стен старинных дворцов, и с мрачными тенями, когда кажется, что проносится стон убитого аристократа, Венеция являет собой город ужаса» (Russell Green. Dreamers in Venice. London, 1936. P. 8).
25
Возьмем пример совсем наугад: Гондола тайная, одна, во тьме скользит; / А близь лагун рукой нетерпеливой / Сжимается кинжал… Кинжал ревнивый! / Он, в злобной радости, две жертвы сторожит / Там, под окном красавицы безвестной, / Влюбленный юноша ей шепчет про любовь… (Сушков Д. Стихотворения. СПб., 1858. С. 87).
26
Д’Аннунцио Г. Собрание сочинений: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 218.
27
Кузмин М. А. Дневник 1905–1907 / Пред., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2000. С. 272, 387.
28
Д’Аннунцио Г. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. С. 258.
29
См. об этом явлении европейской культуры: Sophie Basch. Paris-Venise, 1887–1932: La «folie vénitienne» dans le roman français de Paul Bourget a Maurice Dekobra. Paris, 2000; сам мем «венецианское безумие» введен Жюлем Берто в 1910 году и, возможно, отразился в названии пьесы Михаила Кузмина «Венецианские безумцы».
30
Разумеется, само это слово приходит на ум едва ли не каждому посетителю «жемчужины Адриатики»: «Прежде всего поражает она своим планом или расположением, которому, без сомнения, нет подобного в мире. Это водяной лабиринт или лучше морской шахмат, пересекаемый четырьмя стами каналов…» (Глаголев А. Записки русского путешественника, с 1823 по 1827 год. Ч. 3: Женева. Савоия, Верхняя Италия. СПб., 1837. С. 293). В европейской поэзии надо назвать в первую очередь венецианские сонеты Августа фон Платена (небезразличные из русских поэтов, видимо, для Кузмина, Потемкина, Цветаевой) о лабиринте мостов и улиц (Dies Labyrinth von Brücken und von Gassen). О том, как на мифологии лабиринта построены романы о Венеции конца XX века, см.: George B. von der Lippe, Death in Venice in Literature and Film: Six Twentieth-Century Versions // Mosaic. Vol. 32. 1999. № 1. March. P. 35–54.
31
Ренье А., де. Краткая жизнь Бальтазара Альдрамина, венецианца / Пер. Вс. Рождественского и А. Смирнова // Собр. соч.: В 17 [19] т. Т. 3. Л., 1925. С. 155.
32
Venice. With 182 photographs in full colour by Fulvio Roiter. Introduction by Stephen Spender. London, 1979. P. 7.
33
Mary McCarthy. Venice observed. Paris-Lausanne, 1956. P. 20. Перевод цитаты из Д. Рёскина – Л. Н. Житковой: Рёскин Д. Камни Венеции. СПб., 2009. С. 88; строка П. Б. Шелли в поэме «Юлиан и Маддоло»: «and from that funeral bark I leaned» – «…перегибаясь, за черный край той траурной ладьи» (Шелли. Полное собрание сочинений в переводе К. Д. Бальмонта. Новое трехтомное переработанное издание. Т. 2. СПб., 1904. С. 307).
34
Milton Wilson. Travellers’ Venice: Some Images for Byron and Shelley // University of Toronto Quarterly January 1974. Vol. 43. № 2. P. 93–120. Тут уже все стали замечать траурную изнанку ладьи, и Денис Фонвизин писал сестре в 1785 году: «Разъезжая по Венеции, представляешь погребение, тем наипаче, что сии гондолы на гроб походят и итальянцы ездят в них лежа. Жары, соединясь с престрашною вонью из каналов, так несносны, что мы больше двух дней еще здесь не пробудем». Эту цитату, как и весь обязательный первоначальный набор суждений россиян, см.: Кара-Мурза А. Знаменитые русские о Венеции. М., 2001.
35
Сын Отечества. 1842. № 4. Отд. 4. С. 7. Дошло и до Марка Твена: «И это – прославленная гондола? И это – пышно одетый гондольер? Порыжелая старая пирога чернильного цвета с траурным балдахином, прилаженным посредине, и босой чесоточный оборвыш, выставляющий напоказ некогда белую часть своего туалета, которую не следовало бы открывать святотатственным взорам посторонних. Не прошло и нескольких минут, как, обогнув угол и повернув свой катафалк в унылую канаву, зажатую между двумя рядами высоченных необитаемых домов, веселый гондольер, следуя традициям своего племени, начал петь» (1869).
36
Павлович Н. В. Словарь поэтических образов: На материале русской художественной литературы XVIII–XX веков. М., 2009. Т. 1. С. 729.
37
Иностранная литература. 1998. № 4. С. 205 (пер. И. Эбаноидзе).
38
Эрдман Н. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. М., 1990. С. 235.
39
Семен Кирсанов, новатор par excellence, предлагает свои инвенции в венецианской топике, но по неизбежности принужден повторять зады – «но мне причудилось: дома / привязаны к причалам. / И эти – рядом, на мели, / дворцовые громады – / в действительности корабли / таинственной армады» вторит кажимостям вековой давности: «громадные дворцы, которые, казалось, плыли вместе с берегами» (Клюшников В. Марево // Русский вестник. 1864. № 3. С. 263). Да еще Ганс Христиан Андерсен в «Импровизаторе» писал: «Утром я завидел ее белые дома и башни, казавшиеся издали стаей кораблей с распущенными парусами».
40
См. в нашей антологии: «Словно черные лебеди горя и зол / Отуманены образы мрачных гондол…» (С. Головачевский), «Как черный лебедь, движется гондола, / Послушная неслышному веслу» (В. Эльснер), «Черным лебедем скользит гондола» (О. Можайская) и др.
41
Ср. в нашей антологии о железном гребне, ferro: «Гондолы рубили привязь, / Точа о пристань тесаки» (Б. Пастернак), «подняв большие горловины, / Зубчатые и острые, как нож» (Н. Заболоцкий).
42
Constance Fenimore Woolson. Arranged and edited by Clare Benedict. London, 1930. P. 276.
43
Théophile Gautier. Italia. Paris, 1852. P. 80.
44
Самый ленивый поиск показывает, например, что в лондонской музыкальной мелодраме 1828 года «Чертенок в бутыле» хор гондольеров поет: «Гондольер, гондольер, мягко борозди зыбкую зябь…»
45
Как указывает Джон Малмстад, при «прямом» синтаксисе это должно читаться так: «Вселенная, служа жезлам дожей, венчанных фригийской скуфьей, несет на галерах и фрегатах по изумрудным валам Адрии початки и ключи сокровищниц в дарохранительный ковчежец Божий».
46
Розанов В. Итальянские впечатления. СПб., 1909. С. 225, 228. Ср. у Теофиля Готье о четырех черно-белых мраморных колоннах, которых традиция считает частью Соломонова храма. «Несомненно строитель храма Хирам не нашел бы их неуместными в Сан-Марко» (Théophile Gautier. Italia. Paris, 1852. P. 114–115). О «Соломонических аналогиях» в архитектуре как одной из составляющей концепции «Венеция – Новый Иерусалим» см.: Iain Fenlon. The Ceremonial City: History, Memory and Myth in Renaissance Venice. New Haven, 2008. P. 86–88.
47
Robert C. Davis, Garry R. Marvin. Venice, the Tourist Maze: A Cultural Critique of the World’s Most Touristed City. Berkeley: University of California Press, 2004. P. 20, 34.
48
Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 3. М., 1974. С. 435.
49
Там же. С. 146.
50
См. подробнее: Erik Forssman. Venedig in der Kunst und im Kunsturteil des 19. Jahrhunderts (Acta Universitatis Stockholmiensis XXII). Stockholm, 1971. S. 104–106.
51
О Брюгге, Толедо, Венеции, Равенне, Пизе и других «мертвых городах» см.: Hans Hinterhäuser. Fin de siècle: Gestalten und Mythen. München, 1977. S. 45–76.
52
Бобович И. Мертвый город // Южная мысль. Одесса, 1914. 6 апреля. Об Исидоре Вульфовиче Бобовиче (1894–1979) см. справку Сергея Лущика: Лущик С. З. Чудо в пустыне: Одесские альманахи 1914–1917 годов // Дом князя Гагарина: Сб. науч. ст. и публикаций. Вып. 3. Ч. 1. Одесса, 2004. С. 210.
53
Чиннов И. Пасторали. Париж, 1976. С. 57.
54
См., например, о клише «остановившееся время»: Смирнов Г. «Венецию любят только иностранцы» // Известия. 2003. 10 сентября.
55
Громов П. А. Блок, его предшественники и современники. М.; Л., 1966. С. 362–363.
56
Например, он отправился на Сан Серволо к сумасшедшему дому, описанному в поэме Шелли: «…я приплыл в гондоле, взглянуть на это убежище живых, выброшенных из жизни, лицо, более всех поразившее меня, было исступленное лицо молодой красивой итальянки, которая, стоя на решетчатом окне, с бешенством без конца выкрикивала повесть, как он ее бросил» (Шелли. Полное собрание сочинений в переводе К. Д. Бальмонта. Новое трехтомное переработанное издание. Т. 2. СПб., 1904. С. 581–582).
57
Бальмонт К. Тишина. Лирические поэмы. СПб., 1898. С. 35. Впрочем, в обзорном сонете «Италия» упоминаются в перечислении «Неаполь, шабаш солнца неизменный, / Флоренция, лазурный серафим, / Венеция, где страстью дух палим, / А живопись – цвет золота нетленный» (Бальмонт К. Два сонета к Италии // Утро России. 1917. № 24. 24 января. С. 2).
58
Millard Meiss. Sleep in Venice. Ancient Myths and Renaissance Proclivities // Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. 110. №. 5 (1966), P. 348–382; Ипполитов А. Только Венеция: Образы Италии XXI. М., 2014. С. 201–202.
59
«Венеция» попадает в рекламную глоссолалию «железобетонной поэмы» Василия Каменского «Цирк», чистоту «венецианского лазория, морями и солнцами омытого сразу» поминал Маяковский. Итальянские же футуристы не любили пассеистскую Венецию, прославляли будущее ее затопление – в «Футуристской речи венецианцам» Маринетти выкрикивал: «Так именно, о, венецианцы, мы пели, плясали и смеялись перед агонией острова Филы, погибшего, как старая крыса, благодаря Ассуанской плотине, этой мышеловке с электрическими дверцами, посредством которой футуристский гений Англии овладевает священными бегущими водами Нила». Продолжением футуристической атаки явилась к концу века книга друга Че Гевары, левого французского философа Режиса Дебре: Régis Debray. Against Venice. Translated from the French by John Howe. London, 2002.
60
Стратановский С. Стихи, написанные в Италии // Звезда. 2001. № 6. С. 54.
61
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 393.
62
О паспортах заграничных, пропуске через границу и пограничных сообщениях. Раздел второй устава о паспортах. Составил Л. М. Роговин. СПб., 1909. С. 61. Вся формальная сторона вопроса излагается в этой главе по настоящему источнику.
63
Постников С. П. Мои литературные воспоминания (К истории одного журнала) // Дойков Ю. С. П. Постников. Материалы к биографии (1883–1965). Архангельск, 2010. С. 11.
64
Ю. А. Н. Иммиграция в С.-А. Соединенные Штаты в 1908 г. и эмиграция из России // Вестник финансов. 1909. № 16. С. 119.
65
Письмо М. О. Гершензона к матери от 24 марта 1897 г. // РГБ. Ф. 746. Карт. 18. Ед. хр. 18. Л. 25. Дядя Иось – И. Я. Цысин, одесский негоциант. Здесь и далее для документов до 1917 года принят по умолчанию старый стиль летоисчисления; иные случаи оговариваются.
66
Письмо М. О. Гершензона к матери от 5 мая 1897 г. // РГБ. Ф. 746. Карт. 18. Ед. хр. 19. Л. 3 об. При этом следует отметить, что заграничный паспорт давался исключительно на одну поездку, так что тетя Фанни (Фаина Львовна Цысина) должна была получить ради такого случая новый документ.
67
Письмо М. О. Гершензона к матери от 9 мая 1897 г. // РГБ. Ф. 746. Карт. 18. Ед. хр. 19. Л. 7.
68
Заграничные паспорта образцов 1890–1910‐х годов весьма редки в обычных архивах, поскольку по возвращении из‐за границы их нужно было сдавать в канцелярию губернатора, но тот же самый Гершензон неизвестным способом свой сберег (РГБ. Ф. 746. Карт. 13. Ед. хр. 46): далее мы описываем именно этот экземпляр.
69
См.: Анненский И. Ф. Письма. Т. 1. 1879–1905. СПб., 2007. С. 62–63 (коммент. А. И. Червякова).
70
РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 262. Л. 1–2. Замечание про два паспорта нам неясно – значит ли это, что у него не изъяли внутренний?
71
Из множества заключений приводим на выборку: «Собираю теперь потребные справки о Риме; говорят, что жизнь гораздо дешевле, чем в Москве» (письмо М. О. Гершензона к родным от 5 апреля 1896 г. // РГБ. Ф. 746. Карт. 18. Ед. хр. 13. Л. 15 об.).
72
Турнье А. Л. Образовательное путешествие для лиц обоего пола по Франции, Италии и Бельгии // Русский турист. 1910. № 5/6. С. 41.
73
Лагов Н. М. Рим, Венеция, Неаполь и пр. СПб., 1911. С. 2.
74
Турнье А. Л. Образовательное путешествие для лиц обоего пола по Франции, Италии и Бельгии // Русский турист. 1910. № 5/6. С. 41.
75
Письмо Л. Н. Андреева к матери от 20 апреля 1914 г. – «Верная, неизменная, единственная…» Письма Леонида Андреева к матери Анастасии Николаевне из Италии (январь – май 1914 г.). Вступ. ст., публ. и коммент. Л. Н. Кен и А. С. Вагина // Леонид Андреев. Материалы и исследования. М., 2000. С. 123.
76
Письмо Л. Н. Андреева к матери от 23–24 апреля 1914 г. // Там же. С. 125.
77
Ср., кстати, классический пример обстоятельной подготовки к поездке: «<…> задолго до отъезда мы стали читать книги по истории Италии и ее искусству, а я – заносить в особую тетрадь разные заметки и выдержки из читаемого, составлять нужный нам своего рода путеводитель Бедекера: в городах, где мы наметили останавливаться, я отмечал то, на что надо обратить особое внимание, на какие мозаики и статуи, кто автор того или иного памятника, время создания его, и пр. и пр.». (Остроухов И. Посещение Вены и путешествие по Италии в 1887 году // Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 1. Л., 1971. С. 244).
78
Библиотека А. А. Блока: Описание. Кн. 3. Сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Вовина. Под редакцией К. П. Лукирской. Л., 1986. С. 10–31.
79
Нацвалов Л. Г. Рассказ о путешествии по Западной Европе, Египту и Палестине в конце 1912 года. Тифлис, 1913. С. 100–102.
80
Иованни Дж. Русский в Италии. М., 1913. Надо напомнить, что любые издания остропрактической направленности (от учебников до сонников) плохо сохраняются и еще хуже учитываются библиографией, особенно ретроспективной, так что следующий очерк ни в коем случае не претендует на полноту.
81
Несмотря на неискоренимую водевильность подобного рода разговорников, составители их действительно умели собрать наиболее важные в обиходе фразы; ср. изумление И. Грабаря: «Первый итальянский диалог я имел с facchino <носильщик>. Оказалось, что весь запас взятых мной у моего словаря фраз гениальным образом подошел под все нужные мне случаи, и мне никто ни разу не ответил по-немецки, хотя они, по-видимому, понимают язык» (письмо к В. Э. Грабарю от 29 августа 1895 г. // Грабарь И. Письма 1891–1917. М., 1974. С. 49–50).
82
Русский в Италии. СПб. Б. г.
83
Жданов Л. Г. Русский в Италии. М., 1900 (брошюра входит в серию «Космополит»).
84
Там же. С. III–V.
85
Надо отметить, что чрезмерное увлечение мудростью путеводителей обычно порицалось в отечественных травелогах, ср.: «Группами, парами и в одиночку прохаживались богатые американские старухи – уже не первую сотню лет гуляют они по этой площади, держа в руках путеводители…» (Ильина Н. Дороги и судьбы. Автобиографическая проза. М., 1985. С. 413); «Я вообразила себе дам, щебечущих об Италии за чайным столом в своем дамском клубе, причем одна, наиболее бойкая и памятливая, начитавшись путеводителей, всех заткнула за пояс, рассуждая об оттенках розового цвета у Тициана и голубого у Тинторетто, нахально выдавая эти сведения за собственные наблюдения…» (Там же. С. 414); «И тогда раздаются над вами слова гида, ужаснее и жесточе ударов палачей. <…> И мы прислушиваемся к его словам и с жадным любопытством смотрим на все это, равнодушно глядя в красный Бедекер, торопясь еще куда-то отсюда» (Дейч А. Сны наяву (Открытки с пути) // Музы. 1913. № 1. С. 5).
86
Его колоритный автор, театральный критик Сергей Никитич Филиппов (1863–1910), заслуживал бы отдельного рассказа, зачином для которого подошел бы эпизод из дневника Ф. Фидлера: «Он (Филиппов), казалось, только и ждал, что я начну у него допытываться – почему он постоянно путешествует, почему так мало пишет и т. д.; но я чувствовал, что, сделав это, допущу бестактность. Он обнял меня и поцеловал: „Я чувствую, как Вы деликатны, но перед Вами однажды я изолью душу!“… Должен подчеркнуть, что мы не выпили ни капли; он и вообще пьет чрезвычайно мало» (Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов: характеры и суждения / Издание подготовил К. Азадовский. М., 2008. С. 378).
87
Под собственным именем Карл Бедекер были изданы по-русски всего две книги: «Путеводитель по Ривьере от Марселя до Генуи» (СПб., 1899) и «Царство Польское» (СПб., 1913–1914). Еще две книги («О Палестине и Святой земле». Уфа, 1916) и «Путеводитель по Парижу» (М., 1902) издавались с обтекаемыми подзаголовками «Сост. по Бедекеру» и «По Бедекеру». Отдельно стоит серия «Русский Бедекер», в которой нам известно шесть книг – путеводители по Волге, Санкт-Петербургу, Вене, Парижу, Берлину и Швейцарии, но связь их с материнской торговой маркой кажется нам скорее номинальной.
88
Подробнее см. с. 850–852 настоящего издания.
89
Гревс И. М. Научные прогулки по историческим центрам Италии // Научное слово. 1903. № 3. С. 53. В результате «очерки», периодически печатавшиеся в журнале, так и не вышли отдельным изданием (за исключением малого числа специально изготовленных оттисков) и своего назначения не оправдали.
90
Петровская Н. Разбитое зеркало. М., 2014. С. 605–606.
91
Бахрах А. По памяти, по записям. Париж, 1980. С. 38.
92
Жданов Л. Г. Русский в Италии. М., 1900. С. 14.
93
Западная Европа. Спутник туриста под редакцией С. Н. Филиппова. Четвертое издание. М., 1907. С. XXV.
94
О паспортах заграничных, пропуске через границу и пограничных сообщениях. Раздел второй устава о паспортах. Составил Л. М. Роговин. СПб., 1909. С. 24.
95
Лагов Н. М. Рим, Венеция, Неаполь и пр. СПб., 1911. С. 5.
96
Западная Европа. Спутник туриста под редакцией С. Н. Филиппова. С. XLI–XLII.