 полная версия
полная версияВ тени больших вишневых деревьев
Говоря это, Зуб собирался в дорогу: забил в лифчик1 мага-зины для автомата и гранаты для подствольника, повесил еще несколько РГДшек на ремень и, взяв пять ракетниц, остановился и задумался ненадолго. Потом начал ползать на четвереньках в брюхе машины и жать руки бойцам. К Пожидаеву он подполз в последнюю очередь, опять замешкался и, протянув ему руку, произнес:
– Ты это… Не держи на меня зла, Сергей. Не со зла я все это… В общем, прости, если сможешь…
– Вы меня тоже, товарищ старший лейтенант, – ответил Сергей, как-то сконфузившись и начав кряхтеть, разбивая неожиданно появившийся ком в горле, при этом крепко сжимая протянутую руку.
Зубарев открыл боковой десантный люк и, сказав: «Удачи вам, мужики», – исчез в белой пелене…
Некоторое время все молчали, в мыслях представляя, как Зуб бредет в кромешной белой мгле, но пронизывающий холод заставил всех подумать о насущном. И тут Алик вспомнил, что в БТРе есть ящик тротила, который им оставили саперы. Тут же выяснилось, что буквально позавчера хохол от нечего делать сжег почти всю тротиловую шашку. Моментально «поджига-тель» стал выслушивать о себе всякие интересные подробности, включая и интимные, о которых он и не подозревал. Вмешался Борщевский и остановил длинный список этих интересных и даже порой неожиданных качеств хохла:
– У тротила хоть и высокая температура горения и можно контролировать пламя, ломая брикеты и подкидывая его ку-сками в огонь, но он так коптит, что мы тут на фиг все задо-
1
Лифчик
–
нагрудник-разгрузка для магазинов от автомата,
гранат,
ра-кетниц.

189
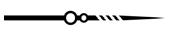
хнемся. Так что нечего наезжать на хохла. Да и откуда он мог знать, что будет такая ситуация? Другие предложения есть? Я не беру бензин во внимание: машина набита боеприпасами, его горение трудно контролируемо. И если что, рванет так, что и груз 200 не надо будет отправлять.
Кто-то вспомнил за сухое горючее из сухпайков. Тут же их перетрусили, нашлось штук 50 таблеток. В пустой цинк из-под патронов, установленный на ведре, зажгли первые десять таблеток. Стало понятно, что они погоды не делают: в этой консервной банке нужен более мощный источник тепла. Оста-вался только бензин. Пока Алик цедил его на улице в ведро, закидываемый хлопьями снега, остальные перетаскивали все боеприпасы в хвост машины.
Тот же цинк наполнили на 1/5 бензином и подожгли, открыв две бойницы. По машине начало распространяться тепло, и первая копоть начала окрашивать потолок БТРа. Приходилось ждать полного выгорания бензина, т.к. подливать его в цинк невозможно. Потом цинк остужали в снегу – и по новой. Тепла было достаточно лишь для того, чтобы не дать дуба. Все никак не могли согреться и по очереди сидели возле пламени, про-тягивая к нему озябшие руки…
Время шло. Помощи не было. Никто не хотел думать о том, что Зуб заблудился или просто не дошел и что придется кому-то идти… Прошло четыре часа, и разговор, которого все боялись, неминуемо близился:
– Я не хочу никому приказывать, да и не могу, – начал его Борщевский. – Есть, кто добровольно хочет попробовать, – и тут он замялся, выбирая между словами «пойти» или «найти»,
и все же выбрал: – Найти штаб?
И тут опять Сергей стал свидетелем метаморфозы русской души. По сути дела, малознакомые люди (кроме Адуашвили и Пожидаева, они были друзьями), которые в полку ведут жизнь по принципу «каждый сам за себя», вдруг в критической си-туации идут на серьезный риск ради других.
– Давайте я пойду, – почти сразу, без паузы сказал хохол.
– А ты что, хохол, самый хитрый? Я тоже хочу прогуляться по свежему снежку, – пытаясь говорить весело, вступил в диа-лог Алик.

190
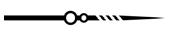
– Ну вы вообще, мужики, как будто вдвоем тут пайку делите.
А как же я? Я тоже хочу в штаб к теплой буржуечке, – пытаясь подыгрывать Алику, весело произнес Пожидаев.
– Да ладно… Огнеметчики земли под собой уже не ощущают, совсем в расчет не берут других. Я тоже хочу в штаб, – вступил в разговор боец из 7-й роты…
И все как один изъявили желание идти искать штаб бата-льона, говоря об этом, как о какой-то прогулке в парке в тени деревьев.
– Тогда жребий, – подытожил сержант Борщевский. Жребий выпал хохлу. Он начал проделывать те же манипу-
ляции, что и Зуб перед уходом: так же попрощался со всеми за руку, а перед тем как вылезти из люка, сказал:
– Если что, пусть напишут моей маме, что, мол, пропал без вести. Один я у нее. Да и она одна у меня, – сказав это, он исчез
в белой пелене…
Примерно через два часа до слуха замерзающих бойцов до-нёсся мерный рокот БТРа. Чем отчетливее доносился звук, тем сильнее прыгали сердца в их груди. И чувство радости, которое начало переполнять их, вылилось в единое:
– Ура!..
Зубарев все же нашел штаб. Ему понадобилось для этого почти пять часов. И, получив обморожение ступней и пальцев рук, остался в штабе для получения медицинской помощи. Хохла подобрали в трехстах метрах от блока: он ходил по кругу. Удивительно, что никто даже не заболел, не считая об-морожения лейтенанта. Человеческий организм в экстренных ситуациях порой проявляет невероятную стойкость.
С тех пор Сергей Пожидаев ненавидит холод и любит при-говаривать: «Лучше семь раз вспотеть, чем один раз покрыться инеем». И когда ночью начинает валить снег за окном, то он обязательно просыпается, потом долго ворочается и не может заснуть… Может быть, это из-за того, что, когда он родился, как рассказывала ему его мама, был сильнейший снегопад, а может быть, тот февраль 1988 года напоминает ему о себе. Кто знает…

191
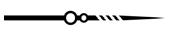
Глава XV
Жизненный опыт показывает, что теория Эйнштейна об от-носительности гораздо шире, чем строго физическое понимание зависимости времени от скорости. Все, кому перевалило за со-рок, думаю, согласятся с тем, что время в их жизни значительно ускорилось, и чем больше вам лет, тем быстрее оно бежит. И вроде бы день только начался, а как смотришь – солнце уже на закате, хотя как было в часе шестьдесят минут, так и осталось. Ну, это, так сказать, частности. На самом деле время может меняться не только индивидуально, но и в целом в отдельно взятой местности.
Есть места на нашей земле, где оно по каким-то причинам идет медленнее. И скорость тут вовсе ни при чем. 1365–1367-й – это годы службы Сергея Пожидаева по местному летоисчис-лению, которое ведется от переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. По большому счету, эти годы полностью соответствовали экономике, культуре, быту и нраву народов, проживающих на территории Афганистана. Больше того, в нем самом, в различных его районах , это же время течет по-разному. И есть место в этой стране, где кажется, что оно со-всем остановилось…
Боюсь ошибиться, но где-то около пятисот лет просущество-вала самая большая в истории человечества Монгольская им-перия. Раздираемая внутренними противоречиями и борьбой за власть между ханами, она была окончательно уничтожена империей Цин, которая была некогда ее подданной. Сами монголо-татары к этому времени полностью перемешались с порабощенными народами и имели весьма далёкое сходство с теми, которых когда-то объединил Тэмуджин, более известный как Чингисхан. Современные монголы, да и многие другие на-роды, которые утверждают, что они потомки великого хана, на самом деле с большой натяжкой являются таковыми. Они утеряли и физиологическое, и языковое сходство с прежде мо-гущественным народом, в основе государственности которого была война.
В центре Афганистана есть провинция Гур, которая нахо-дится высоко в горах, с административным центром – городом

192
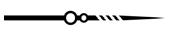
Чагчараном, расположенным на высоте примерно 2300 метров над уровнем моря. Когда-то давным-давно, в начале XIII века, Чингисхан отправил туда воинов для охраны своих земель,
и они, дойдя до этих высокогорных мест, заняли там боевые рубежи…
Прошло более семи веков. Империя давно канула в Лету. Великий народ, который контролировал одну четвертую часть суши, исчез с лица земли. Но все же не совсем. Есть в этой провинции кишлаки, в которых до сих пор живут потомки тех воинов, а значит, и прямые потомки великого хана. Только они из когда-то многомиллионного народа сохранили тот самый монгольский язык, на котором говорил Чингисхан, сохранили быт, традиции и даже религию – шаманизм, несмотря на то, что жили в радикально-исламистской стране.
Проезжая их кишлаки и смотря на них, Сергею казалось, что он попал в далекое-далекое прошлое, что время здесь остановилось навсегда, как будто эти воины совсем недавно прискакали на своих небольших лошадях и только успели соорудить временные глиняные жилища. И даже их гонец еще не доскакал до Чингисхана, чтобы сообщить: «Дозор на юго-восточных границах империи выставлен…»
Как переменчива бывает история… Два с половиной века Русь была под игом Золотой орды, а теперь солдаты, чьи предки были угнетаемы монголо-татарами, сидя на броне огромных железных коней, рычащих и страшно лязгающих своими гу-сеницами, выпускающих в воздух черные и сизые струи, едут усмирять непокорных потомков Тэмуджина…
***
И снова механическая многоножка цвета хаки, поднимая столбы пыли, неспешно двигалась по извилистому серпантину
в сторону Чагчарана, чтоб произвести замену личного состава батальона и артиллерийской батареи, дислоцировавшихся возле этого города, затерянного во времени и высоко в горах. А также нужно было пополнить запасы боеприпасов, топлива, продук-тов, дров, угля и многого другого, чтобы оставить новых бойцов один на один зимой с холодом и снегами, а летом – с пылью и жарой, вместе с непокорными правнуками воинствующего и

193
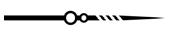
вольного народа… Это был предпоследний рейд на Чагчаран. Со следующей колонной гарнизон будет полностью выведен в начале в Шинданд, а потом – в Союз…
Как всегда, это была общевойсковая операция, повторяю-щаяся раз в полгода, в которой участвовал 12-й Гвардейский, 101-й и 371-й мотострелковые полки, чтобы заодно с заменой личного состава высокогорного батальона и батареи навести порядок в мятежных кишлаках. Почти все огнеметчики 3-го ПТВ были разбросаны по различным машинам для усиления в случае обстрела, и Сергей со своими «Шмелями»1 бултыхался
в кабине «Урала», который вез снаряды для гаубиц. Водилу-чижика из РМО звали Юрка. Фамилию Сергей не спрашивал – не детей же с ним крестить.
Схема подготовки молодых кадров в Союзе, по сути, везде была примерно одинакова, и мальчишки, получившие права в ДОСААФе от военкомата за три месяца, по профессионализ-му практически не отличались от выпускников 169-го ВШП. При сдаче экзаменов мало кого интересовало, что парнишка всего лишь пару раз был на занятиях. Армии нужны были водители. И такой вот ученик, успешно заваливший теорию, а потом и практику, к своему немалому удивлению, получал права профессионала. Все бы ничего, если бы Юра хоть не-много обтерся, набил бы, так сказать руку, но он четыре месяца гонял на «козлике»2 – возил комполка. И когда тот сменился, то его пересадили на «Урал». Почему новому командиру Юрка не пришелся ко двору, история умалчивает. И можно сказать, что судьбы у них с Пожидаевым примерно были одинаковы: из князи – в грязи. Именно так, а не наоборот.
«Остановка времени» отрицательно сказалась и на тамош-них дорогах: они ничуть не изменились с тех пор, как здесь появились в XIII веке монголо-татары. Дороги были абсолютно естественны, т.е. никакого покрытия под ногами, а было то, что соответствовало ландшафту данной местности: либо грунт, либо камень с грунтом или просто камни. Хотя правильнее было употребить вместо слова «грунт» словосочетание, которое
1 «
Шмель»
– реактивный пехотный огнемет.
2 «
Козлик»
– легковой автомобиль-внедорожник ГАЗ-69.

194
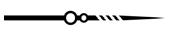
я использовал, описывая дороги в Герате, – «пылевые реки», только они там были серого цвета и еще в два раза глубже.
Нетрудно догадаться, что если административный центр – город Чагчаран, находился на высоте около 2300 метров над уровнем моря, то были селения в провинции Гур, расположен-ные гораздо выше. Некоторые из них находились на уровне более 3500 метров. Насчет «города» тоже нужно сделать кор-ректировку. Просто в понимании современного человека город
– это высотные дома, асфальтированные дороги, торговые цен-тры и т.д. Но Чагчаран на самом деле был большим кишлаком, состоящим в основном из глинобитных домиков и дувалов. Наверное, наличие базарной площади и аэродрома давало ему статус города. И, опять же, так называемый тамошний «аэро-дром» весьма смахивал на колхозный в родной станице Пожи-даева, на котором мирно всегда стояла пара «кукурузников».
Возвращаясь к дорогам, можно сказать, что их покрытие было, конечно же, не самое страшное, а плохо было то, что они строились высоко в горах с учетом прохождения по ним караванов из лошадей, верблюдов или ослов (осел – самое рас-пространённое в Афганистане домашнее животное для пере-возки грузов и работы в поле). Максимум, на что они были рассчитаны, – это проезд какой-либо арбы.
Предки великого Чингисхана строили их или кто другой, но они явно не рассчитывали на то, что по ним будут ездить многотонные грузовики, уж не говоря о САУшках и танках. Поэтому дороги были очень узкими, и техника еле-еле про-ходила: с одной стороны она скрежетала металлом о скалы, прижимаясь к ним вплотную, а с другой – очень часто сразу за колеей была пропасть. И это еще можно было как-то преодо-леть. Но хуже всего было то, что при такой узости серпантины имели очень резкие повороты, порой чуть ли не на 180 градусов. В результате чего те 250–270 км до Чагчарана, где начинался серпантин, военизированная колонна проходила за 8–9 суток. Бывало, что за один день она проползала только по 15–18 км, растягиваясь на многие километры.
Несмотря на то, что Афганистан – южная страна, но из-за высокогорья зимы в провинции Гур были снежные и суровые, и поэтому «дорога жизни» была открыта только в теплое вре-

195
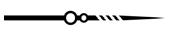
мя года: с середины весны до середины осени. Как следствие, убогий аэродром Чагчарана все же иногда работал, принимая наши МИ-8, МИ-6 и АН-26, а также местные самолеты АН-26 правительства Наджибуллы. Но и здесь тоже не все так гладко. Частые туманы, в которые погружался город, иногда месяца-ми не давали возможности приземлиться авиации, обрекая на холод и голод наш гарнизон, который прятался где-то там, под белой пеленой.
Наверное, труднодоступность этих мест остановила здесь время, что перевернуло с ног на голову «бизнес» офицерского состава Советской Армии. В Герате, Шинданде, Кандагаре дуканы ломились от всевозможных товаров, которые даже и не снились советским гражданам. Дембеля-офицеры на зара-ботанные чеки, а также на афошки, полученные от продажи местному населению всего того, что можно было украсть и продать, набивали поистине эпические баулы и с чистой со-вестью перли все это домой, поражая воображение летчиков,
в чьи самолеты они садились. Конечно же, рядовому солдату, на чьи плечи ложились все тяготы службы, такие баулы были из области фантастики по причине скудости денежного до-вольствия, отсутствия шанса свободно попасть в город, ну и возможности воровать все то, что можно продать.
Бизнес «с ног на голову» представлял из себя то, что в ле-тящие вертушки, а также идущие колонны на Чагчаран гру-зилось не только необходимое нашему гарнизону, но и часть военторга 5-й дивизии: офицеры скупали там все, что можно, и сдавали это втридорога местным барыгам. Отрезанность от мира и труднодоступность делали ассортимент дуканов этого города очень скудным, и торговцы с удовольствием скупали товары из военторга, так что наш офицерский состав внес, так сказать, свою лепту в развитие торговли в этой стране, причем
в обе стороны: импорт и экспорт.
Вот и сейчас в машине вместе с Юркой и Серегой болтался старлей с тремя вещмешками, набитыми конфетами из воен-торга, которые шли в Чагчаране как горячие пирожки в базар-ный день. Он подсел в Шинданде и был из дивизии. Судя по петлицам, офицер принадлежал к богу войны – артиллерии. И что он делал в машине, было непонятно: то ли груз сопрово-

196
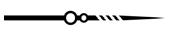
ждал, то ли бизнес-вояж совершал. Но то, что он не собирался использовать конфеты вместо шрапнели, – это как дважды два. Уж очень он оберегал их.
Старлей никак не представился, а только спросил: «Чья ма-шина?» И когда услышал: «12-й полк, 3-я батарея», – почему-то утвердительно мотнул головой и со словами: «А ну погодь!» – начал забрасывать свои конфеты в кузов. То, что в вещмешках были конфеты из военторга , бойцы только на второй день пути узнали. Они были не в теме «бизнеса наоборот», но специфиче-ское шуршание целлофана в мешках офицера не ушло от тонко-го слуха бойцов. Как только он отлучился на продолжительный промежуток времени, то любопытство солдат немедленно было удовлетворено путем простого вскрытия вещмешков старлея.
Это было как случайно обнаружить маленький кусочек счастья. И когда в глаза Сергею и Юрке ударила разноцветная радуга целлофановых пакетиков импортных конфет из воен-торга, то уголки их губ стремительно поползли в направле-ние ушей. С этой минуты по тихой грусти эти разноцветные сладости стали растворяться в пищеварительном тракте бой-цов, а вещмешки стали незаметно пополняться радужными целлофановыми пакетиками, набитыми пылью вперемешку с камешками. Хоть Серега и был без пяти минут дембелем, но конфеты он мог есть просто двадцать четыре часа в сутки, не говоря уже о чижике. Тот мог есть их двадцать пять часов в сутки: просто он вставал бы на час раньше. Рано или поздно это бы, конечно, обнаружилось, но солдаты были не в силах противостоять искушению. Последующие события уберегли бойцов от неприятного надвигающегося инцидента, хотя для Юрки уж лучше бы все вскрылось, чем такая цена…
На первых же километрах серпантина старлей и Пожидаев прочно утвердились в том, что их водила, мягко говоря, остав-ляет желать лучшего, и Серега после этого сильно затосковал
о своем БТРе и своем друге Алике, который был настоящим профи. То ли тоска Пожидаева, то ли свои какие-то внутренние умозаключения удручающе подействовали и на артиллериста. Он перестал напевать песенку «Исчезли солнечные дни» В. Ле-онтьева, которую мурлыкал безостановочно, как сел в «Урал», и только когда курил, брал перерыв. Офицер тоже погрустнел

197
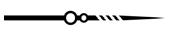
и
стал с какой-то безнадежностью обозревать кабину маши-ны. На первой же остановке он предложил снять броню
1
, чтоб улучшить обзор водителю. Видно, его наблюдения, прошедшие сквозь призму размышлений о бренности нашей жизни, дали однозначный ответ возникшим внутренним терзаниям: гораздо больше шансов перевернуться или улететь в пропасть, чем по-пасть под обстрел. Возражений старлей никаких не получил. Пожидаев и водила были абсолютно солидарны с ним и тут же принялись снимать броню с кабины.
Снятую броню покидали в кузов и тронулись дальше, но каждый новый пройденный километр стал даваться все труднее и труднее: некоторые перевалы имели очень крутые подъемы, спуски, повороты и, конечно же, адски узкие доро-ги. Ехали в основном молча, напряженно вглядываясь вперед, сквозь стену пыли, местами держа открытыми двери, чтобы в случае чего быстро выпрыгнуть из машины. Пыль стояла столбом не только на улице, но и в кабине. Было бесполезно закрывать окна и двери. Казалось, она проникала не только во все щели, но и сквозь лобовое стекло, окрашивая весь личный состав в серый цвет. И только периодически хлопающие глаза говорили о том, что перед вами не серый манекен, а человек. Часто машина не вписывалась в поворот с первого захода, и приходилось делать несколько раз маневр назад-вперед, чтобы войти в него. И Юрка буквально висел на руле, т.к. у машины не работал гидравлический усилитель руля, а может, его вообще не было, кто его знает.
Все совсем стало плохо, когда начали подниматься на очень крутой перевал и груженый «Урал» буквально взвыл, но ехать никак не хотел. Он прыгал на месте, подкидывая в кабине бойцов вместе со старлеем, выпускал клубы сизого дыма, чи-хал, стрелял, но ехать никак не хотел. Будь, конечно, водила поопытней, он бы крутанул что-нибудь там, под капотом, типа зажигания или бензонасоса, но он не знал, что и куда крутить, как и остальной экипаж машины. Не теряя времени на поиски того, кто знает, что и куда крутить, «Урал» зацепили тросом к БМП и поехали дальше.
1
Броня
–
новые
«Уралы»
и КрАЗы приходили в полк с бронированными
кабинами. Броня, которая была навесной, существенно снижала обзор водителю.

198
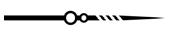
По всей видимости, водитель на БМП тоже был еще тот и ехал, как будто один, практически не учитывая, что тянет за собой «Урал». Так они и двигались, не расцепляясь, полдня, пока на следующем серпантине не дошли до очередного кру-того поворота, в который «Урал» с одного захода ну никак не мог вписаться. БМП , в отличие от него, может и на месте крутануться на все 360 градусов, и поэтому она без проблем вошла в поворот и продолжила движение. Юрка ничего не смог сделать. И, когда БМП скрылась за поворотом, таща их за со-бой, он направил машину на скалу.
– Держитесь! – порекомендовал он своим пассажирам.
И как только «Урал» начал лезть на скалу, старлей с Серегой
в один голос выдохнули:
– Твою мать!…
Машина оторвала свои передние колеса от земли, двигатель заглох, металлический канат натянулся до предела… В тот момент, когда Пожидаев подумал: «Пора прыгать!», с щелчком, похожим на выстрел, трос лопнул… «Урал» тут же стреми-тельно покатился назад. Мгновенно с тем же боевым кличем: «Твою мать!» – офицер катапультировался через боковую дверь. Одновременно Сергей завопил:
– Тормози!
– Я торможу! – несколько нервно и почему-то перейдя на визг ответил ему Юрка, но машина, сдерживаемая лишь включен-ной первой передачей, стремительно набирала скорость назад, катясь прямо в пропасть.
«Надо делать ноги к югу», – с этой мыслью Серега не понял, как сам оказался возле боковой двери, которую уже распахнул левой рукой. Следующий миг его жизни должен был украсить полет в пылевую реку. Но на очередном качке педали тормоза все же сработали и все шесть колес стали колом…
Инерция закинула обратно Пожидаева в кабину, придавив
к сиденьям, и «Урал», посунувшись юзом, остановился в двух метрах от пропасти. Это были его последние тормоза…


