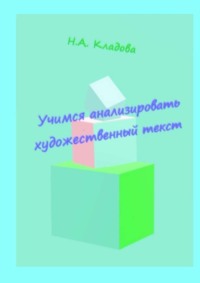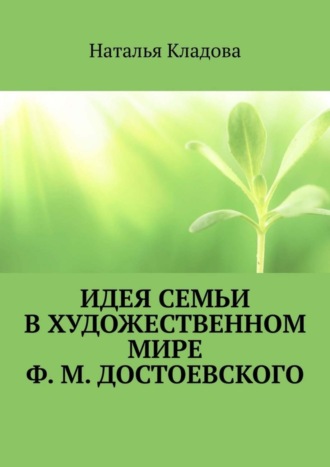
Полная версия
Идея семьи в художественном мире Ф. М. Достоевского. Монография
Во-вторых, Достоевскому была чужда радикальная идеализация народа. О «последних мерзавцах» (которые, однако, сознают свою мерзость) не раз упоминал писатель. В Мертвом доме он увидел самое «дно» народной жизни. И – не отвернулся, а, разглядев, сам обрел светлый образ Христа, которого носит в своей душе русский человек.
В высшей степени показательно, что в Сибири побывали и некоторые народники, повторив судьбу Достоевского, только уроки, извлеченные ими из близкого соприкосновения с народом, оказались иными. Так, в январе 1864 года В. В. Берви-Флеровский был сослан в Сибирь за революционную пропаганду среди населения Астрахани, а через несколько лет появилась книга «Положение рабочего класса в России», описывающая ужасные социальные условия жизни народа. Другой революционной народник В. В. Рейнгардт вспоминал о впечатлении, произведенном книгой Флеровского на их поколение: «Какими ужасными красками он обрисовал положение крестьян и положение всего вообще чернорабочего люда! Как искренно, как горячо сочувствовали мы им! Строили планы, перебирали все средства улучшить их настоящее положение». «Сибирская ссылка, – пишет о Флеровском Б. С. Итенберг, – еще больше расширила представления пытливого наблюдателя о социальных противоречиях царской России. Повсюду он был свидетелем неимоверного разорения и нужды трудящихся, на каждом шагу видел народные страдания, убеждался в необходимости принятия решительных мер, направленных на улучшение жизненных условий трудового люда». Еще пример. И. Н. Мышкин, сидя в Петропавловской крепости во время следствия по процессу «193-х», писал: «Побывав в Сибири, я еще более убедился в ничтожестве реформ, совершенных в последнее время, а следовательно, и в необходимости стремиться к более радикальному улучшению общественного быта». И. Н. Мышкин вспоминает и еще один эпизод в своей судьбе: когда он сбежал из училища, его посадили на гауптвахту в общую арестантскую камеру. «Гауптвахта сблизила меня с несчастным, страдающим людом, от которого я начал было уклоняться под влиянием предыдущей, материально обеспеченной жизни; у меня возродилось, окрепло желание работать на пользу народа. Влияние гауптвахты было так сильно, что по выходе из нее я немедленно начал собирать материалы о жизни солдат в провинции». 70 71 72 73
Достоевскому сибирская жизнь дала не только и не столько знание социального быта народа, но знание иного уровня. Не случайно так ценил писатель некрасовское стихотворение «Влас». И в первую очередь за то, что Влас – образ-символ русского народа, который умеет страдать и в страдании очиститься (глава «Влас» в «Дневнике писателя»). Достоевский очень хорошо знал о темном в народной душе, но еще лучше сознавал, что сейчас интеллигенции нужно открыть светлое в этой душе. 74
Народническая идеология нашла яркое выражение в литературе. 70-е годы – это время всплеска поэтического творчества. Поэзия народников 70-х гг. выражала стремление авторов изменить русскую жизнь по законам социальной справедливости, их веру в скорое возникновение нового мира, выражала представление интеллигентов-народников о своем долге, о своей общественно-исторической миссии в России этого периода. Достоевский прямо не спорил с народниками, но многие его мысли, высказанные на страницах «Дневника писателя», как мы уже частично убедились, явно противостоят народническим идеям и надеждам, витавшим тогда в воздухе.
Лирический герой народнических стихотворений внешне напоминает пророка: он гоним, его не понимают (А. К. Шелер-Михайлов «Пророк»), он умирает мученической смертью, не отрекшись от своей веры (А. П. Барыкова «Мученица»). В образе пророка или Христа была воплощена идея подвижничества. «Народничество сделало нормой поведения всей передовой молодежи беззаветное служение идеалу, безоговорочную веру в идею и подвижничество». Но пророк или Христос – образ не только мученический, подвижнический, в нем был заложен еще один смысл: такой образ оказывался проекцией авторов на самих себя. Они возвели себя в ранг пророков, знающих истину о жизни и несущих в народный мир новое слово о справедливом жизнеустройстве. В. В. Берви-Флеровский вспоминал: «В России в это время новая религия носилась в воздухе; ждали появления новой веры, ждали именно великой, революционной веры социального равенства, которая возникнет в России и разольется по всему цивилизованному миру». Мечтая установить социализм в России, они часто оглядывались на Запад. В сознании Флеровского евангельские истины соотносились с французскими лозунгами. «Когда я был ребенком, – вспоминает народник, – я с пламенным увлечением читал евангелие – это учение любви, братства и равенства людей <…>. Те же восторженно-пленительные чувства вызывал во мне крик Великой французской революции: „Свобода, равенство и братство“. И после знакомства со всеми ужасами этого времени этот крик горел в моей душе тем же чистым и ярким пламенем, как и до этого». Методы установления нового строя в России предлагались на западный манер. Так, в стихотворении Ф. В. Волховского «Там и здесь» читаем: 75 76 77
Там, на Западе далеком,
Пролетарий бой ведет,
Крепнет он в бою жестоком,
Крепнет, множится, растет.
Здесь, на пасмурном Востоке,
Пролетарий крепко спит;
Он не думает о сроке
Избавленья и молчит.
Но зато студент проснулся
И протер уже глаза,
И на Запад оглянулся:
Скоро ль Божия гроза?
Он работника разбудит,
С ним сольет свой интерес
И с ним об руку добудет
Хлеб, свободу и прогресс. 78
Но на Востоке и на Западе жизнь исторически устраивалась разными путями. Повторим мысль Достоевского, указанную нами в начале главы. «В восточном идеале – сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уж, в силу этого духовного соединения всех во Христе, и несомненно вытекающее из него правовое государственное и социальное единение, тогда как по римскому толкованию наоборот: сначала заручиться прочным государственным единением в виде всемирной монархии, а потом уж, пожалуй, и духовное единение под началом папы, как владыки мира сего» [25, 151—152]. А потому «не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов . Вот наш русский социализм!» [27, 19]. Н. И. Пруцков верно замечает особенность изображения «рая на земле» Достоевским (в «Сне смешного человека»): «В золотой утопии Достоевского даже и намека нет на какую-либо организацию идеального общества, на разделение труда и других общественных обязанностей между его членами. <…> Главное в этом строе – братолюбовное единение, взаимное обожание. Такое любовное братство людей, исключающее трагическую обособленность их в современном писателю обществе, невозможно выдумать и нельзя „расписать“». Истинное единство не в механических общинных схемах. Переустройство на рациональных началах всегда обречено на провал. Да и в необходимости устройства Достоевский сильно сомневался. всесветным единением во имя Христово пере 79 80
В поэзии П. Л. Лаврова рождение Христа, «Мессии», воспринимается как рождение Того, кто установит порядок. Тот – это новый, не евангельский, Христос. От «первого» Христа народы не дождались желаемого – того, что справедливый, новый
Он прекратит вражды земные,
Он уврачует боль рабов,
Он сломит цезаря гордыню,
Он фарисея обличит,
Разрушит идолов святыню,
Любовь и правду водворит!» 81
Поэтому должен родиться новый Мессия. В стихотворении происходит подмена понятий, которая сознательно завуалирована: оно начинается известием о рождении Христа евангельского, а заканчивается наступлением эпохи нового Христа:
Мессия истинный родился —
Он начал правды, братства век;
Он в нашем деле воплотился —
Всесильный богочеловек! 82
В стихотворении «Новая песня» (показательно уже название) заявляется прямо:
Отречемся от старого мира! 83
Мир существующий перечеркивается, история переписывается заново. Но ведь без прошлого не может быть будущего. В этом Достоевский и видел большую опасность и любыми способами предостерегал – не останавливаясь даже перед фантазиями, в чем отдавал себе ясный отчет («Я бы не остановился тут » [29, кн.1, 41] – в письме к А. Н. Майкову). ни перед какой фантазией…
Заметим, народ тоже строил социальные утопии (например, крестьянские общественные ассоциации Ивана Петрова в Пошехонском уезде Ярославской губернии, Антипа Яковлева в Плесовой стороне Костромской губернии, Николая Попова тоже в Костромской губернии, Михаила Попова в Саратовской, Бакинской, а потом Енисейской губерниях, Ивана Григорьева в Самарской губернии и др.), но идейная направленность этих утопий существенно отличалась от чаяний народников-социалистов. А. И. Клибанов, автор объемного труда о подобных явлениях в России ХIХ в., так определяет отличие утопий от утопий : «Социалистическая мысль Огарева и Герцена, последующих народнических идеологов отталкивалась от поисков некапиталистического пути русского исторического развития. Социалистическая мысль народных утопистов отталкивалась от поисков идеалов и форм жизни, свободных от социальных антагонизмов как таковых». При этом «ни мессианизм руководителей и идеологов организаций народной утопии, ни их и их последователей религиозная экзальтация, мистицизм, фанатизм – весь этот „священный трепет“, вся атмосфера пророчеств, видений, откровений не были привнесенными и посторонними элементами по отношению к социальным начинаниям – общности имуществ, строю внутриобщинных отношений, формам быта, нормам семейно-брачных связей». Народными мыслителями-утопистами и их последователями руководило живое чувство Христа, желание видеть мир, преображенный евангельским светом, стремление приблизить жизнь к апостольским временам с их атмосферой братской любви. Идея всечеловеческого единства на основе принципа «трудами рук своих» – одна из заветных в сочинениях Тимофея Бондарева. Обряды, которые соблюдались в общине, основанной Михаилом Поповым, должны были выражать и укреплять духовное единство членов общины, их решимости и готовности быть «вкупе» и «влюбе» в дни грозных пророчеств о кончине света. Последователи Николая Попова считали, что «дело, которое они осуществляли, <…> является восстановлением того, что некогда уже существовало и освящено именем Христа и что, таким образом, они лишь возвращаются к исходным и исконным началам веры и жизни». Пытаясь преобразовать социальные формы жизни, народные утописты хотели посеять и взрастить в мире христианскую любовь, сострадание и милосердие, они лелеяли мысль о братском единении людей в мире. Этим живет человек, в этом и есть правда жизни. народных народников 84 85 86
Достоевский тоже знал, что нужно сделать, чтобы посеять в мире любовь и гармонию: «Если б и все роздали, <…>, свое имение „бедным“, то разделенные на всех, все богатства богатых мира сего были бы лишь каплей в море. А потому надобно заботиться больше о свете, о науке и о усилении любви. Тогда богатство будет расти в самом деле, и богатство настоящее, потому что оно не в золотых платьях заключается, а в радости общего соединения и в твердой надежде каждого на всеобщую помощь в несчастии, ему и детям его» [25, 61]. Народники мечтали восстановить справедливость на уровне социальном, поэтому и их внимание больше было направлено на народ – на тех, кто угнетен. Достоевский о том же мечтал на уровне духовном, а потому свое внимание направлял на интеллигенцию, которая обеднила себя, переродившись в европейца, отрекшись от своей национальной сути. По мнению Достоевского: «Ныне получился тип русского революционера до того уже отличный от народа, что оба они друг друга уже совсем, окончательно не понимают: народ ровно ничего не понимает из того, чего те хотят, а те до такой степени раззнакомились с народом, что даже и не подозревают своего с ним разрыва (как все же подозревали, например, петрашевцы), напротив, не только прямо идут к народу с самыми странными словами, но и в твердой, блаженнейшей уверенности, что их непременно поймет народ. Эта каша может кончиться лишь сама собою, но тогда только, когда восполнится цикл нашего европейничанья и мы все воротимся на родную почву всецело» [25, 26]. Долг русских интеллигентов – восстановить порванные связи – не просто с народом, но со своими историческими корнями, прошлым, т.е. с самим собой, почувствовать себя полнокровным членом . несправедливо несправедливо семьи национальной
Таким образом, еще в 40-е годы русской литературной и общественной мыслью был поставлен один основной вопрос – как сделать так, чтобы наступило время, когда все люди будут «братьями». «Благородные порывы» охватили и молодого Достоевского. Однако, используя мемуарные свидетельства, мы можем утверждать, что Достоевский, увлекаясь западными идеями, сознавал их «неприложимость» к русской жизни. И скоро в своем творчестве он разорвет этот замкнутый круг, оставлявший за своими пределами знание о том, что есть русский народ. Белинский – своеобразное знамя этой эпохи – оказал значительное влияние на идейное развитие Достоевского. Однако Достоевский будет упорно доказывать опасность безграничной веры в человеческие возможности, в справедливый мир без Христа.
В середине 50-х годов Россия переживает общественный подъем, вызревают планы народной революции, по-прежнему в обществе слышится негодование на социальные условия жизни народа. Достоевский же открывает другую правду о народе. На каторге он сознает себя русским и из народной души, православной в своем существе, принимает снова в свою душу Христа.
В 70-е годы, когда в поэзии революционных народников зазвучал призыв «отречемся от старого мира», Достоевский доказывал, что следует не только не отрекаться, но и принять в свою душу духовные ценности «старого мира», преклониться перед народной правдой, потому что эта правда – наша, русская. У интеллигента, считал Достоевский, был долг не только перед народом в плане улучшения его социального быта, но и перед самим собой в смысле духовного возвращения на родину после долгих лет европейского скитальчества; восстановить порванные связи – не просто с народом, но со своими историческими корнями, прошлым, т.е. с самим собой. И снова, в то время как народники думают о справедливом устройстве социального быта, в основе которого должны быть общинные порядки, Достоевский ищет в русской народной душе реальное объединяющее начало, способное преображать мир.
В публицистическом и художественном творчестве писателя эти идеи воплотились в устойчивую метафору истории о блудном сыне.
Так, в «Дневнике писателя» читаем: «Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа; преклониться пред правдой народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи. Одним словом, мы должны склониться, как , двести лет не бывшие , но воротившиеся, однако же, все-таки русскими, в чем, впрочем, великая наша заслуга. Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это sine qua non: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой» (полужирный курсив мой. – Н.К.) [22, 45]. Условие заключается в «расширении взгляда». «Древняя Россия в замкнутости своей , – неправа перед человечеством, решив бездеятельно оставить драгоценность свою, свое православие <…>. С Петровской реформой явилось расширение взгляда беспримерное <…>. Это не просвещение в собственном смысле слова и не наука, это и не измена тоже народным русским нравственным началам, во имя европейской цивилизации; нет, это именно нечто одному лишь народу русскому свойственное, ибо подобной реформы нигде никогда и не было. Это, действительно и на самом деле, почти братская любовь наша к другим народам, выжитая нами в полтора века общения с ними; это потребность наша всеслужения человечеству, даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим интересам; это примирение наше с их цивилизациями, познание и их идеалов, хотя бы они и не ладили с нашими <…>. блудные дети дома готовилась быть неправа извинение
Можно серьезно верить в братство людей, во всепримирение народов, в союз, основанный на началах всеслужения человечеству, и, наконец, на самое обновление людей на истинных началах Христовых. И если верить в это «новое слово», которое может сказать во главе объединенного православия миру Россия, – есть «утопия», достойная лишь насмешки, то пусть и меня причислят к этим утопистам» [23, 46—50].
Достоевский действительно верил в возможность единения людей всего мира. Веру писателя подкрепила русско-турецкая война 1877—1878 гг. Она стала войной за святыню, потому что «поднялась, <…>, народная идея и сказалось народное чувство: чувство – бескорыстной любви к несчастным и угнетенным своим, а идея – „Православное дело“» [23, 102], и далее: «Славяне уверятся наконец, если б состоялась даже всевозможная клевета, в русской к ним. На них подействует неотразимое обаяние великого и мощного русского духа, как начала им » (курсив мой. – Н.К.) [23, 115—118]. Служение России другим народам писатель называет « служением ее им, как дорогим детям» (курсив мой. – Н.К.) [26, 86]. братьям родственной любви родственного материнским
По мысли Достоевского, «стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите» [26, 148].
Интеллигенты как , должные вернуться в свой родной через единение с народом, образовав с ним духовную , – это та образность, которая станет основой символического подтекста всей совокупности художественного наследия писателя. блудные дети дом семью
Осмысление идейного содержания и художественных законов творчества Достоевского в контексте данной идеи / считаем наиболее плодотворным. дома семьи
Глава 2 – основная. Семья в художественном творчестве Ф. М. Достоевского
1. «Преступление и наказание»: разъединенность с человеческим целым и преодоление ее
…«Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же» [Лк. 10, 30—37]. В этой евангельской притче четко обозначен смысл понятия «ближний» и отражена норма человеческих отношений, предполагающая способность каждого быть «ближним» другому. Главный герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» отступил от этой нормы, отдалив себя от человеческого общества, что обусловило, на наш взгляд, интересную особенность хронотопической структуры романа. Художественный мир произведения вмещает в себя два плана бытия: первый – созданный теорией Раскольникова, отражающий «модное безверие», которым заражено общество; второй – истинный, мыслимый идеально, но мерцающий в существующей действительности. Именно этому второму миру постоянно «проигрывает» разум Раскольникова.
В проекции на мировоззренческий язык: первый план – это зло, творимое волей человека, оно – неонтологично, поэтому ведет к забвению онтологического статуса мира (ибо «помутилось сердце человеческое»); и «тысяча добрых дел», подразумевающихся раскольниковской теорией, – не истинно добрые дела, искаженное в своей сути добро; второй план – онтологически безгрешный мир, абсолютное добро.
Два хронотопических плана «Преступления и наказания» отражают и две ипостаси духовного бытия (истинная и «перевернутая» духовные реальности); они представляют собой два возможных исхода, которые зримо явлены в конце романа: 1) в сне Раскольникова о трихинах, 2) в сцене возрождения в новую жизнь Раскольникова и Сони. Пространство художественного мира произведения – это пространство духовное, наложенное на пространство реальной действительности. Сопряжение разных планов бытия происходит преимущественно через образы-символы и художественные детали-символы (солнце, мост, лестница, перекресток, деньги, числа , «обманные» предметы / ситуации). Идея двух «пространств» объясняет и многие сюжетные эпизоды (которые в прямом смысле не всегда логичны), подчиняя весь сюжет единому замыслу. Семантическое наполнение символов многопланово: они – либо с «перевернутым» / «обманным» смыслом (репрезентирующие модель мира по теории Раскольникова), либо с амбивалентным смыслом (подчеркивающие возможность и мира бесовского, и мира Божьего, возможность эта является результатом свободного выбора каждого человека). «Перевернутую» раскольниковскую реальность воплощают также образы Свидригайлова, Лужина, Лебезятникова. четыре / четырнадцать
Рассмотрим наиболее значимые символы, организующие хронотоп и расставляющие смысловые акценты в идейном содержании романа.
, с позиции теоретического мира Раскольникова, в структуре романа может прочитываться как обозначение восхождения вверх – к счастью родных, а шире, всего человечества, то есть к лучшему миру, по собственному, раскольниковскому, образцу (именно по ней он поднимается в квартиру Алены Ивановны, чтобы взять те средства, на которые можно осуществить замысел). Так как это ложно понятое счастье, на лестнице всегда . Эта темнота символически отражает духовную тьму героя (заметим, темнота на лестнице ему очень даже нравилась, поскольку так любопытный взгляд неопасен [6, 7]). Большинство других сцен романа освещает только «догоравший» огарок [6, 22] / огарок, который «уже давно погасал в кривом подсвечнике» [6, 251] / тусклый свет / лампа. В таком контексте слова Раскольникова при объяснении Соне причин убийства приобретают символический смысл: «Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать» [6, 320]. Этот смысл четко обозначен самим героем, правда, пытающимся переложить ответственность со своих плеч на плечи сверхъестественной силы. «Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня?», «я ведь и сам знаю, что меня черт тащил» [6, 321]. Соня вынуждена ходить к Мармеладовым в , «средства посильные доставлять», то есть делать праведное, благородное дело бесчестным способом. Лестница темно сумерки 87 88
Примечательно, что несколько раз именно при с лестницы Раскольников выходит из духовной тьмы, то есть думает или действует вопреки своей теоретической логике. Так, после , спускаясь по лестнице от старухи, «он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. И наконец, уже на улице, он воскликнул: схождении пробы
«О боже! как это все отвратительно! И неужели, неужели я… нет, это вздор, это нелепость! – прибавил он решительно. – И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц…«» [6, 10].
Еще пример. Отдав все свои деньги на похороны Мармеладова, Раскольников спускается с лестницы «полный одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни» [6, 146]. На последних ступенях его догоняет Поленька и горячо благодарит за проявленное добро. (Правда «полную жизнь» он еще понимает по-своему, теоретически.)
Лестница, находясь в ложном плане бытия, приобретает «перевернутый» смысл. Пульхерия Александровна о той, которая ведет к каморке Раскольникова, восклицает: «Но вот и эта лестница… Какая ужасная лестница!» [6, 170]. При этом Раскольников по разным лестницам в романе почти всегда поднимается в этаж (к старухе процентщице, к Мармеладовым, в контору). Смысловые акценты относительно числа расставлены автором и далее. Четыре – некая черта, граница между «темным» и «светлым». Читая о воскресении Лазаря, Соня «энергично ударила на слово: » [6, 251]. «Четыре дни» лежал Лазарь мертвым во гробе. Раскольников, допустив преступный умысел в душе своей, тоже, в сущности, живет. Он не был у Разумихина месяца ; месяц не ходит на уроки и не платит за каморку. Разумихин говорит больному Раскольникову: « день едва ешь и пьешь» (курсив мой. – Н.К.) [6, 93]. По евангельскому слову, четыре дня – тот период, после которого совершается воскресение – при одном условии. «Иисус сказал ей (Марфе. – Н.К.): ; верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек» [6, 250]. В этой евангельской цитате, включенной в художественный мир романа, писатель курсивом обозначил самое важное в ней. Четыре этажа лестниц, по которым ходит Раскольников, – жизни, но с надеждой на воскресение, возможное только тогда, когда Родион примет сердцем «условие». 89 90 91 четвертый четыре четыре не четыре четвертый Четвертый Я есмь воскресение и жизнь вне но