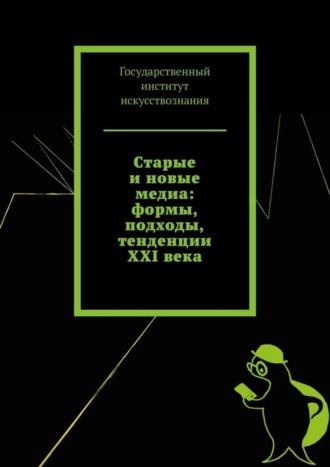
Полная версия
Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века
«Зрительское чтение» (ближайший аналог – клиповое мышление) отличается от «читательского чтения» целым рядом особенностей. Во-первых, это «скорочтение», схватывание сути написанного с «первого взгляда», а значит, поверхностное, свернутое, ограничивающееся минимумом содержащейся в тексте информации. Литературное произведение начинает восприниматься на уровне фабулы (то есть потока следующих один за другим внешних событий), но не на уровне сюжета (развития художественной идеи). В этом отношении чтение романа становится неотличимым от бездумного поглощения телесериала. Позиции автора текста и его персонажей перестают различаться. Социальные, бытовые и психологические детали повествования лишаются символического и концептуального значения и остаются лишь предметно-вещным фоном событийного нарратива.
Во-вторых, это однократное действие, в принципе не предполагающее возвращения назад, «перечитывания» одного и того же, аналитического подхода к прочитанному (поэтому философские, религиозные, политические смыслы текста, всевозможные подтексты, интертекстуальные связи от читающего зрителя неизбежно ускользают). Глубинные пласты содержания (различные аллюзии, скрытые цитаты, символика, мифологические и религиозные ассоциации, жанровые и стилевые каноны и прочее) вообще не воспринимаются и остаются «невидимыми».
В-третьих, с исчезновением глубины, метафоричности и многомерности/многозначности текста утрачивается отличие текстов художественных от нехудожественных, то есть теряется эстетическое измерение текста, а вместе с тем и нравственное, и интеллектуальное его наполнение.
В-четвертых, усиливаются визуальные ассоциации, исходящие из вербального текста, независимо от иносказательных, идеологических, философских или символических смыслов, как правило, вкладывавшихся в них. Что же касается собственно интеллектуально-философских текстов, то их понимание, с точки «зрительского чтения», вообще невозможно, поскольку их проблематика предметно не вообразима и не имеет визуальных коннотаций и эквивалентов в окружающей повседневности.
Зритель вербального текста, дающий его вольную трактовку, поданную через призму своего визуального опыта, на самом деле подменяет авторский текст – собственным, притом принципиально отличным от исходного своей визуальностью (а это ви́дение вряд ли можно считать чтением, скорее это – визуальная реинтерпретация «просмотренного»). В этом случае читательская коррекция «зрительского» опыта прочтения необходима и неизбежна.
Не менее своеобразно реализуется стратегия «зрителя как читателя». В зрительское восприятие субъекта современной культуры имплицитно вложен экфрасис (вербальная репрезентация визуального), который реализуется как функция читателя, заключенного в подтексте зрителя. Ви́дение некоего визуального ряда не только может, но и, в идеале, должно быть дополнено чтением как бы стоящего «за ним» (в глубине), подразумеваемого вербального текста. «Прочтение» визуального текста предполагает не только и не столько его «просмотр», но и осмысление. И в этом признании заключена не только метафора, но и констатация возможной или необходимой вербализации визуального содержания как способа более глубокого проникновения в его смысл. Подобная вербализация содержания произведений изобразительного искусства почти всегда сопровождает процесс чисто визуального созерцания живописи (часто начиная со словесного названия картины), хотя не всегда акцентируется зрителем. Исключение составляют произведения беспредметного искусства, принципиально рассчитанные на «прочтение» на ином, невербальном языке [40; 41].
Двухуровневое восприятие визуального текста имеет особое значение в кино. Массовые жанры (детективы, боевики, мелодрама, фильмы ужасов и тому подобное) могут вполне обойтись чисто «зрительским» подходом, отслеживающим событийную фабулу, развитие и разрешение конфликтов, борьбу характеров и обстоятельств, разгадывание какой-то тайны и тому подобное. Никакой «глубины» визуального текста за подобным «событийным потоком» не стоит. Подобные массовые жанры словесной беллетристики также не знают глубины текста и отлично схватываются «зрительским» чтением. Однако как только мы сталкиваемся с интеллектуальным или поэтическим кинематографом, нам уже не избежать «читательского взгляда». Подобные фильмы должны быть не только увидены (зрителем), но и прочитаны (читателем). И только в результате такого внимательного «прочтения» вербального подтекста становятся очевидными философские, исторические, религиозные, нравственные и другие прозрения художников-мыслителей в кино.
Таким образом, диалогически соединенные в одном субъекте культуры зритель и читатель – совместными и нередко одновременными усилиями – организуют проникновение в глубину кинотекста (на поверхности – визуального, а в глубине – вербального). Аналогично работает и сам субъект медиакультуры: на поверхности быстрого восприятия он по преимуществу – зритель; в глубине, отягощенной неторопливым анализом и размышлением, он в основном – читатель; но в данном случае читатель и зритель – «сообщающиеся сосуды», взаимно корректирующие свои наблюдения и обобщения, тяготеющие к синтезу (а если это искусство – к синестезии).
Реципиент медиакультуры, как в первую очередь зритель, одним зрительским восприятием не может пробиться за поверхность экрана, в «непроницаемые глубины» так называемого субмедиального пространства (Б. Гройс), представляющего собой скрытый, невидимый зрителю анклав знаковых носителей. Здесь ему может помочь лишь читательский субъективный опыт, наполняющий это пространство, по его воле, различными догадками, подозрениями, опасениями, прозрениями и открытиями, выраженными словесно и, в той или иной мере, литературно [42]. В этом отношении «начитанность» зрителя/читателя, его литературная эрудиция, развитое читательское воображение являются незаменимым источником интерпретативных «подсказок», позволяющих «освоить» субмедиальное пространство, заполнив его гипотетическими версиями, мотивами, символическими значениями, некоторые из которых имеют шанс в дальнейшем подтвердиться на практике, уже за пределами медиатекста. Таким образом, «читательское зрение» выступает как мысленное продолжение «зрительского ви́дения» и становится своеобразным средством творческого расширения медиареальности.
Еще одним важным резервом медийного расширения человека является двухслойная соотнесенность визуального и звукового (музыкального) ряда. Эти отношения Эйзенштейн называл «звукозрительным феноменом» и «звукозрительным монтажом», природу которых он связывал с умением сочетать «культуру слуха» с «культурой глаза», с «нахождением средств соизмеримости изображения и звука» [43]. Таким образом в «заэкранном пространстве была обнаружена еще одна двусоставная характеристика субъекта медиакультуры – «звукозритель», сопоставимая со «зричителем». Этот феномен получил недавно и другое, тоже правомерное название – «зритеслушатель» [44]. В этой структурной единице медиакультуры «зрительский слух» взаимодействует со «слушательским зрением», которые являются такими же взаимодополнительными компонентами интермедиального восприятия кино, театра, телевидения, видеоарта, сетевого искусства, как и «читательское зрение» и «зрительское чтение».
Все это означает, что виртуальная реальность, скрытая от нас под медиальной поверхностью экрана и нередко ассоциирующаяся с «темным субмедиальным» пространством, обладает сложной феноменальной структурой, требующей более глубокого изучения – как в отношении старых, так и новых медиа [45; 46]. На смену медиализации культуры грядет ее виртуализация, а виртуальная реальность тесно смыкается с воображаемым [47], что значительно усложняет наши недавние представления о реальности, культуре, искусстве и человеке, об интенциональности, ментальности и познаваемости мира.
Примечания:
[1] Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. – М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – С. 9.
[2] См.: Ханзен-Леве, Оге А. Интермедиальность в русской культуре. От символизма к авангарду. – М.: РГГУ, 2016.
[3] Кондаков И. В. Архитектоника российской цивилизации // Культурология: История культуры России. – М.: Высшая школа; Омега-Л, 2003. – С. 542 – 558. См. также: Он же. Архитектоника русской культуры // Кондаков И. В. Культура России. 4 изд. М., 2008.
[4] Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. З-е изд. – М.: Московский хронограф, 2008. – С. 782, 853 – 855, 863 – 864.
[5] См. подробнее: Кондаков И. Покушение на литературу (О борьбе литературной критики с литературой в русской культуре) // Вопросы литературы. 1992. №2. С. 75 – 127.
[6] См., например: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 9 – 11 и 13; т. 6, С. 171.
[7] Громов Е. С. Сталин: Искусство и власть. – М.: Эксмо, 2003. – С. 229 – 230, 233, 237 – 239, 243 и др.
[8] Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. – СПб.: Сеанс, 2018. – С. 357 – 363.
[9] Кондаков И. В. Феномен «эстрадности» в культуре «оттепели» // Художественная культура. 2018. №4. – С. 162 – 195.
[10] Эльзессер Т., Хагенер М. Цит. изд. – С. 357 – 358. Термин «ремедиация» предложили Дж. Д. Болтер и Р. Грусин. См.: Bolter J.D., Grusin R. Remediation: Understending New Media. Cambridge (MA), London: MIT Press, 1999. Позднее к этой концепции присоединился и внес в нее свои коррективы Л. Манович (Image Future, 2006).
[11] От искусства оттепели к искусству распада империи. Сборник статей / Отв. ред. Н. А. Хренов. – М.: ГИИ; Канон + РООИ «Реабилитация», 2013.
[12] Кондаков И. В., Соколов К. Б., Хренов Н. А. Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты. – М.: Прогресс-Традиция, 2011. – С. 460 – 462.
[13] Эти странные семидесятые, или Потеря невинности: Эссе, интервью, воспоминания / Сост. Г. Кизевальтер. – М.: Новое литературное обозрение, 2010.
[14] Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР / Сборник материалов; редактор-составитель Г. Кизевальтер. – М.: Новое литературное обозрение, 2014.
[15] Многогранность человеческого капитала: культурные и социальные основания. Коллективная монография (общ. ред. и сост. О. Н. Астафьевой и О. В. Шлыковой). – М.: Согласие, 2019. – С. 62 – 94 и др.
[16] Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950 – 1990-е годы: В 2 т. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. Т.2. – С. 668- 669.
[17] Дубин Б. В. Очерки по социологии культуры: Избранное. С.625 – 627.
[18] См. подробнее: Кукулин И., Липовецкий М. Постсоветская критика и новый статус литературы в России // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко и Г. Тиханова. – М. Новое литературное обозрение, 2011. С. 635 – 722.
[19] См., например: Тимина С. И., Левченко М. А., Смирнова М. В. Русская литература ХХ – начала XXI века: Практикум. – М.: ИЦ «Академия», 2011.
[20] Кондаков И. В. Архитектоника культуры как метод исторической культурологии (на примере России) // Мир культуры и культурология. Альманах Научно-образовательного культурологического общества России. Вып. II. – СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2012. С. 156 – 157.
[21] Кукулин И. В. Машины зашумевшего времени: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – С. 453 – 492.
[22] Сальникова Е. В. Визуальная культура в медиасреде. Современные тенденции и исторические экскурсы. – М.: Прогресс-Традиция, 2017. – С. 61, 77 – 78, 146, 150 – 157, 477 – 478, 509 – 513 и др.
[23] Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике. – СПб.: Академический проект, 2004. – C. 10 – 66 и далее.
[24] Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: Праксис, 2005. – С. 60 – 69, 83 – 100, 148 – 159 и т. п.
[25] См. подробнее: Дубин Б. В. Динамика печати и трансформация общества; Журнальная культура постсоветской эпохи // Он же. Очерки по социологии культуры. – С. 41 – 48; 49 – 57 и далее.
[26] Солженицын А. И. Публицистика: В 3-х т. Т. 1. – Ярославль: Верхне-волжское кн. изд-во, 1995. – С. 538 – 598.
[27] См.: Дубин Б. В. Печать 90-х годов: общие данные // Он же. Очерки по социологии культуры. – С. 750 – 754.
[28] См. подробнее: Кондаков И. В. От литературоцентризма – к медиацентризму (Вектор образовательных технологий или веер открывающихся возможностей?) // Высшее образование для XXI века. V Международная конференция: Москва 13 – 15 ноября 2008 г.: Доклады и материалы. Секция 9. Высшее культурологическое образование. М.: Изд-во МосГУ, 2008. – С. 73 – 86.
[29] Кондаков И. В. От Логоса – к «Глобусу» (Еще о русском литературоцентризме) // Гуманитарное знание и вызовы времени / Отв. ред. и сост. С. Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. – С. 377 – 392.
[30] См.: Дубин Б. В. Телевизионная эпоха: жизнь после // Он же. Очерки по социологии культуры. – С. 750 – 763.
[31] Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Он же. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. – М.: РГГУ, 2012 (Серия: «Современные гуманитарные исследования», Кн. I). – С. 228.
[32] См.: Дубин Б. В. Телевизионная эпоха: жизнь после // Он же. Очерки по социологии культуры. – С. 761 – 785.
[33] См. также: Дубин Б. В. Массмедиа и коммуникативный мир жителей России: пластическая хирургия социальной реальности // Он же. Россия нулевых: политическая культура – историческая память – повседневная жизнь. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – С. 197 – 220.
[34] См., например: Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.). / Под ред. С. И. Тиминой. 3-е изд. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: ИЦ «Академия», 2013.
[35] Кондаков И. В. К архитектонике «советского» // Социокультурная динамика глобальных процессов. Научные труды кафедры глобалистики и геополитики (К 25-летию). – СПб.: Стратегия будущего, 2014. – С. 95 – 97
[36] Кондаков И. В. Архитектоника современности как культурной эпохи // Современное состояние культуры и общества: Особенности и перспективы развития России / Отв. Ред. А. В. Костина. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013. – С. 155 – 161.
[37] Кондаков И. В. По ту сторону слова: Кризис литературоцентризма в России ХХ – XXI вв. // Вопросы литературы. 2008. №5. С. 5 – 44.
[38] Кондаков И. В. Кризис литературоцентризма в России (ХХ – начало XXI вв.) // Теория художественной культуры. Вып. 12 / Под ред. Н. А. Хренова. М.: ГИИ, 2009.
[39] Соцреалистический канон. Сборник статей / Под ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. – СПб.: Академический проект, 2000.
[40] См. более подробно: Кондаков И. В. «Зричитель»: новый субъект современной культуры // Обсерватория культуры. 2016. №5. – С. 516 – 525. Неологизмом «зричитель» я условно назвал синтез зрителя и читателя в современной медиакультуре.
[41] См. также: Кондаков И. В. Культурная семантика «заэкранного» пространства // Художественная культура. 2018. №1 (23). – С. 32 – 45.
[42] Гройс Б. Под подозрением: Феноменология медиа. – М.: Художественный журнал, 2006. – С. 16 и далее.
[43] Эйзенштейн С. М. За кадром // Он же. За кадром: Ключевые работы по теории кино. М.: Гаудеамус; Академический проект, 2016. – С. 412, 411, 418 и др.
[44] Дуков Е. В. Сеть: публика и искусство. – М.: ГИИ, 2016. – С. 149 и далее.
[45] См., например: Таратута Е. Е. Философия виртуальной реальности. – СПб.: СПбГУ, 2007 (Серия «Апории», вып. 2).
[46] Василькова А. Н. Феномен виртуальности: О переходе между мирами… – М.: ГИИ, 2016.
[47] См. подробнее: Суворов Н. Н. Воображаемое как феномен культуры. – СПб.: СПбГИК, 2018.
В направлении XXI века
Юрий Богомолов
Об эссеистике в экранных искусствах
«Журден. Скажите на милость! Сорок слишком лет говорю прозой – и невдомек!»
МольерСобственно, мастера экранных медиа часто не догадываются, что они сочиняют в жанре «эссе». Не догадываются, потому что не думают в эту сторону. И мне это было как-то без разницы и не интересно, но до поры до времени.
До того времени, когда вызрела теоретическая коллизия.
Припоминая будущее задним числом
В силу разных обстоятельств и не в последнюю очередь по причине технологической отсталости отечественной телеиндустрии ТВ в нашей стране не сразу было осознано как средство массовой коммуникации. Но и на сей раз не случилось худа без добра. Отставание оказалось к лучшему, к выгоде того, что представлялось, на первый взгляд, чем-то факультативным – в пользу искусства.
Ограниченность телеаудитории явилась благоприятной предпосылкой для разведки по части эстетических возможностей нового визуального аттракциона. И почти сразу теоретики и критики ТВ обратили внимание на его художественные потенции. Первым делом они вспомнили запись Сергея Эйзенштейна, датированную 1946-м: «Там (в кинематографе) монтаж, например, был лишь более или менее совершенным следом реального хода восприятия событий в творческом преломлении сквозь сознание и чувства художника. А здесь он станет самым непосредственным ходом в момент свершения этого процесса» [1].
Великий режиссер и теоретик кино прежде прочего оценил эстетическую новизну ТВ-технологии, имея в виду сиюминутность монтажа и не имея перед собой ни одного ее продукта. А Михаил Ромм в начале 60-х годов уже не сомневался в художественной природе голубого экрана и категорично заявил: «Я полагаю телевидение самостоятельным искусством» [2].
Большинство его коллег согласились с ним наполовину: ТВ – да, искусство, но не самостоятельное, а скорее – прикладное. В смысле – репродуктивное.
Конечно, тут же ставится вопрос: насколько специфичен язык телевидения как формы художественного творчества? И в чем его специфика?
Ответ: прежде всего, в сиюминутности. На первых порах телевизионная сиюминутность воспринималась как чудо. Так же как достоверность киноизображения – на заре кинематографа. Хотя бы потому, что сиюминутность ощущалась новым качеством достоверности.
И новым уровнем искренности.
И новым свойством непосредственности.
И, наконец, «рентгеном характера». То есть своего рода – телевизионным полиграфом.
На это, собственно, и обратил внимание первый исследователь «чуда голубого экрана» Владимир Саппак в своей книге «Телевидение и мы» [3].
У сторонников исключительно репродуктивной компетенции ТВ не находилось убедительных контраргументов до той поры, пока достоянием повседневной телевизионной практики не стала видеозапись, которая вроде бы и отменила языковой барьер между двумя экранными музами – кино-зрения и дально-видения.
Патриоты художественного кинематографа поспешили указать новой технической Музе на ее место. Место тени. То есть место изначально ущербной копии [4].
Была еще надежда на такую специфическую данность, как сериальность экранного сочинения. Именно в этой дисциплине кинематограф не мог не уступить ТВ. В шахматах такой ход называется «жертвой качества».
В количественном отношении киносерии и телесериалы действительно – не ровня.
Именно качеством «картинки» сериалы в массе своей не могли похвастаться. Хвастались и продолжают козырять количеством серий и сезонов. И потому работа над ними не высоко ценилась мастерами кино. И даже презиралась. Считалась «отхожим промыслом».
…Но главным препятствием реализации креативного начала ТВ стала его коммуникативная функция. На Западе она мгновенно возобладала над художнической претензией новоявленной технической Музы. У нас это произошло не сразу, с некоторой задержкой. Но, в конечном итоге, и мы пришли к выводу, что из всех коммуникаций наиважнейшей для КПСС является Телевидение. (Кажется, до меня кто-то нечто подобное сказал по другому поводу.) По этой причине им больше стала заниматься социология вкупе с культурологией. Теоретический интерес к практике ТВ со стороны искусствоведов и художественной критики заметно упал.
Между тем, как показало будущее, которое сегодня, в ХХI веке, предстало настоящим, хоронить телевидение как «самостоятельное искусство» в середине ХХ века было рано.
Стоило телезрителю с помощью интернета сорваться с поводка эфирного вещателя, как и сериал отлепился от него. Отношения между сериалом и зрителем стали более избирательными и, стало быть, более вкусовыми и более свободными в эстетическом отношении, что позволило первому вернуть себе изобразительное качество большого кинематографа и открыть в себе способности к художественным откровениям и открытиям.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

