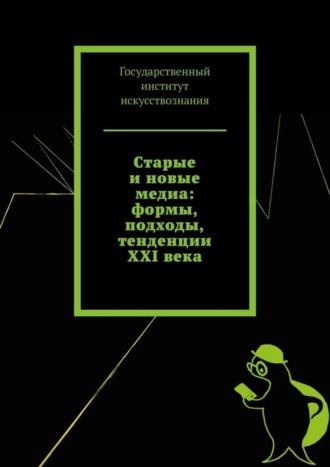
Полная версия
Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века
Для первой ступени советской архитектоники («революционной») характерен экспериментальный характер поиска адекватных медиа. Здесь и броское заявление Ленина о предпочтении большевиками среди всех искусств – кино (по некоторым сведениям, Ленин упомянул в качестве «важнейших искусств» – наряду с кино – еще и цирк, что, учитывая устный характер высказывания и мемуарный – передачи, вполне вероятно). Здесь и пресловутый «ленинский план монументальной пропаганды» – с опорой на скульптуру и плакат. Здесь и театрализованные агитбригады – опыт перформативной пропаганды юной советской идеологии. Но все же главенствовала в полуграмотной Советской России в качестве интегрального медиа – газетно-журнальная публицистика и критика, то есть печатные медиа, используемые в целях политической агитации и пропаганды (тот самый «Агитпроп», про который Маяковский в предсмертной поэме «Во весь голос» говорил, что он к 1930 году «на зубах навяз», и не одному поэту).
Впрочем, вербальная медиализация культуры была для русской читающей аудитории привычной: уже к середине XIX века борьба между литературой (и другими видами искусства) – с одной стороны, и критикой (вкупе с публицистикой), распространяемой через журналы и газеты, – с другой, составляла основной «нерв» культуры и общественной жизни [5]. В той или иной степени эти процессы продолжались и в культуре Серебряного века. В начале ХХ века Ленин в работах «С чего начать?» и «Что делать?» обосновал принцип, согласно которому периодическая печать является тем медиумом, который выполняет в области политики не только агитационные и пропагандистские функции, но и функции организационные [6]. Эти социокультурные функции периодики были особенно эффективны в социально-политическом ключе по сравнению с художественно-эстетическими и коммуникативными функциями искусства (в том числе словесного искусства – поэзии, драматургии и художественной прозы). В 1920-е годы этот принцип стал доминирующим в организации, управлении и политическом регулировании социокультурных процессов.
Власть вербальных медиа во многом сохранялась и в 1930-е, и в 1940-е годы, накладывая свой волевой отпечаток на большинство смежных явлений культуры – литературу, театр, кино, изобразительное и музыкальное искусство (достаточно вспомнить воздействие многократно переиздаваемых и повсеместно насаждаемых «Краткого курса истории ВКП (б)» и сталинских «Вопросов ленинизма»). Эта и подобная ей партийная публицистика составляла, несомненно, целенаправленный и основополагающий «мейнстрим» всей сталинской эпохи.
Однако на него последовательно наслаивались и другие медиа, обретавшие все большую влиятельность и распространенность в Советском Союзе этого времени – Всесоюзное радио и советское кино, создававшие для «пропагандистского слова» емкий аудиальный и визуальный контекст. Слово стало не только читаемым, но и звучащим на радио; кино же (а вместе с ним и фотография) сделало наглядными образы людей, произносящих важные слова, распространяющих словесно ключевые идеи эпохи и своим поведением, и речью демонстрирующих общественно необходимую деятельность. В результате «управляющие» культурой медиа, собранные в виде «пучка», приобрели синтетический и объемный, многомерный характер. Правда, и новые, технизированные «расширения» слова: радио, фотография и кино – по сравнению с вербализованной политикой в публицистической форме – имели второстепенный, подчиненный слову характер.
Неслучайно Сталин, придававший кино как средству пропаганды исключительное значение, полагал, что автор сценария фильма более значим, нежели кинорежиссер (которого представлял скорее как монтажера киноленты и организатора киносъемок). Отсюда его пристальное внимание к словесному тексту будущего и уже снятого кинофильма [7]. В то же время альянс вербального текста, его радиотрансляции и экранизации в кино представлял качественно новую фазу медиализации культуры, имевшую неожиданно сильный творческий эффект. Так, рождение «сталинского фольклора» (так называемых новин) в творчестве профессиональных носителей традиционного устного народного творчества произошло под влиянием на их исполнительство газетной периодики и политических радиопередач. Былинный эпос, зародившийся еще в Киевской Руси, легко был приспособлен для нужд тоталитарной культуры.
Прокофьевская кантата «Здравица», приуроченная к 60-летнему юбилею Сталина (включая гротескный псевдонародный текст, сочиненный самим композитором), также родилась на пересечении различных медиа (включая вымышленные «новины», музыкальную радиопропаганду и кинохронику, пропущенные через призму авторской иронии). Последний пример (не единственный в своем роде) наглядно свидетельствует о том, что каждая эпоха, даже такая замкнутая в себе, как сталинская, изнутри себя подготавливает себе на смену следующую, не только отличную от предыдущей, но подчас и прямо противоположную ей. В своем саморазвитии каждая архитектоническая ступень не только передает свое культурное наследие сменяющей ее системе, но и подспудно преодолевает свою ограниченность. Немалую роль в подобной двойственной трансформации играет феномен «ремедиации» [8], который удобнее рассмотреть на примере оттепели.
Короткая эпоха оттепели, обращенная фактически к тому же набору совмещенных медиа (печатная и визуальная публицистика, документальное и игровое кино, разнообразные радиотрансляции, к которым добавились начальные телепередачи), радикально пересмотрела содержание тех же медиа. Демократизация и десталинизация, гуманизация и психологизм, индивидуализация и жанрово-стилевой плюрализм – все эти черты, характеризующие обновление контента культуры после смерти вождя, актуализировались благодаря именно ремедиации, то есть более или менее радикальной трансформации системы медиа.
Вербальные, и особенно печатные, медиа ушли на второй план; напротив, визуальные и аудиальные медиа выдвинулись на первые места. Так, поэтический «бум» во многом был связан не столько с распространением сборников стихов, сколько с «эстрадизацией» поэзии, вышедшей на подмостки сцены и арены стадионов [9]. Поэзия стала звучащей, и в этом своем «иномедиальном» качестве она обрела новый смысл и новую популярность. Р. Щедрин в соавторстве и с участием А. Вознесенского создал «Поэторию», представлявшую собой музыкальное действо вокруг фигуры поэта – чтеца своих произведений. Поэтическое чтение было перенесено не только на концертную сцену и на радио, но и в кино («Застава Ильича» М. Хуциева), а затем и на телевидение. Многие литературные тексты обрели активную, публичную жизнь в результате театрализации и экранизации. Любимовский Театр на Таганке инициировал поэтический театр (по мотивам поэзии В. Маяковского, С. Есенина, А. Вознесенского, В. Высоцкого и других). Поэзия обрела свою визуальность и перформативность.
Тенденция экранизации литературных произведений немного заявила о себе уже в конце сталинской эпохи («Молодая гвардия» С. Герасимова, «Повесть о настоящем человеке» А. Столпера), но по-настоящему масштабно она развернулась только в 1950 – 1960-е годы («Овод» А. Файнциммера, «Чужая родня» и «Тугой узел» М. Швейцера, «Земля и люди» и «Дело было в Пенькове» С. Ростоцкого, «Сорок первый» Г. Чухрая, «Тихий Дон» С. Герасимова и другие). Вербальная медиализация культуры сама по себе постепенно теряла значение; на повестку дня выходила разнообразная интермедиализация контекста литературы, театра, изобразительного искусства, музыки, кино. Такого расширения медийного контента сталинская эпоха не знала и в принципе не могла породить.
В культуре оттепели особенно наглядно заявила о себе ремедиация, проявляющаяся в том, что «новое» (в том числе в области медиа) всегда поначалу приходит под видом «старого», подражая ему – внешне или внутренне. Однако ремедиация – двойственный процесс: внутри нее действуют противоположные и взаимодополняющие тенденции – транспарентность и гипермедиальность; первая направлена на сокрытие своеобразия «нового», а вторая – на нарочитое педалирование медиа своей новизны и специфики. Ремедиация демонстрирует вариативность изменений в сфере медиа и неоднозначность вызывающих это причин. В то же время ремедиация расширяет возможности медиа в плане вариантов соединения и комбинирования одних медиа с другими [10], что в идеале придает сумме медиа вид цельного медийного ансамбля.
Однако ремедиация в проблемном поле культуры оттепели, – если учитывать конфронтационные отношения этой эпохи в архитектонике советской культуры, с одной стороны, с предшествующей сталинской эпохой (отрицанием которой по большей части оттепель является), а, с другой стороны, с последующей – позднесоветской – эпохой, с характерными для нее чертами кризиса, застоя, консерватизма, – играла дестабилизирующую роль. Ценности и смыслы, рожденные послесталинским временем, то утверждались как высшие гуманистические ценности общечеловеческого порядка, утраченные и попранные во время диктатуры Сталина, то подверстывались под общесоветскую идеологию и тем самым как бы незначительно отличались от ценностей революционного времени и сталинской эпохи. Культура оттепели (в лице разных своих представителей) то ратовала за «открытость» мировой культуре, за расширение контактов и культурных обменов с Западом; то выступала с требованиями продолжать идеологическую борьбу, отстаивать «кровное и завоеванное» советской властью и всеми силами отвергать чуждые социалистическим идеалам идеи и образы. Разные медийные инструменты оттепельного времени были включены в острую борьбу «за» и «против» тоталитаризма и моделировали сеть противоречивых установок и оценок.
Более глубокое и разностороннее рассмотрение эпохи оттепели [11] показывает, что этот этап в истории советской культуры не только мог быть, но и был в реальности переломным. С одной стороны, оттепель надломила советскую цивилизацию, и советская культура впредь последовательно эволюционировала в сторону от сталинизма и его социокультурных принципов. С другой же стороны, та же оттепель упорно примиряла новые установки – на создание «социализма с человеческим лицом» – со старыми, базировавшимися на сталинском «Кратком курсе истории ВКП (б)» и ленинском понимании революции и социализма, то есть стремилась сохранить верность изначальным принципам социалистической идеологии и культуры, социалистического строительства советского общества и государства и тем самым утвердить их незыблемость на вечные времена. Оттепельная ремедиация – в своем колебании между селекцией культуры и конвергенцией – только усугубляла возникший социокультурный хаос, почти неотличимый от порядка и постепенно трансформировавшийся в русский постмодерн [12].
От оттепели как центральной ступени в пятичленной архитектонике российско-советской культуры тянутся нити, связывающие эту эпоху с предшествовавшими этапами советской истории, подготовившими оттепель как средоточие противоречий российского социализма. Но от оттепели берут начало и все разрушительные тенденции последующих этапов советской истории, ведшие советскую цивилизацию – через разочарования, сомнения и отрицания – к ее неотвратимому концу: к позднесоветской ступени развития, к перестройке как катастрофическому финалу русского коммунизма, советизма и государства СССР и, наконец, за пределы советской истории, к постсоветскому периоду России. Собственно, эти «нити», исходящие из оттепели и тянущиеся к ней, ретроспективные и перспективные, являются своего рода медийным «продуктом» ремедиации. Погружение в мир позднесоветской эпохи [13; 14] показывает, что все культурные артефакты этого времени в конечном счете коренятся в той «трещине», которой являлась оттепель в отношении к советской культуре и советскому политическому строю.
Но еще более противоречивое впечатление от культурных достижений советской цивилизации складывается у вненаходимого исследователя «советики» (или даже просто непредубежденного наблюдателя советской культурной истории), когда он представляет итог архитектонического развития советской культуры как своеобразную «сумму» пяти ступеней советского наследия. Многое из того, что считалось культурным достижением на одной ступени развития, на следующей нередко выглядит (с точки зрения, например, текущей культурной политики) как упущение, ошибка и даже преступление, а в дальнейшем может быть не только оправдано, но и поставлено в заслугу прошедшей эпохе. В конечном счете все определяется конкретной динамикой ремедиации на каждом уровне советской архитектоники культуры.
От первой ступени архитектоники к последней нарастает концентрация противоречивого смысла архитектонического целого. Достигая своего предела, этот смысл целого, будучи «парализован» противоречиями взаимоисключающих составляющих (представляющих содержание разных этапов/ступеней архитектоники), перестает расти и развиваться, исчерпав свой изначальный потенциал развития. Дальнейшее развитие культуры становится возможным при условии более или менее радикальной смены парадигмы. Так, советская культура, прошедшая в своем развитии пять противоречивых этапов, не смогла возродиться на собственной основе и продолжила свое развитие – уже в качестве культуры постсоветской – за пределами «советского» [15, 16].
Суммируя пять этапов/ступеней советской культуры в целом, мы не можем не получить крайне противоречивой картины «советскости», в которой все пять «срезов» советской истории взаимно противоречат друг другу, но связаны в тугой узел. Тот же противоречивый итог ожидает нас, если мы рассмотрим – с позиций архитектоники – историю русско-советской художественной культуры и отдельных ее составляющих: советской литературы, советского изобразительного искусства, советского театра, музыки, кино, а также советской эстетики, советского литературоведения и искусствознания.
Суммарное видение всех пяти ступеней архитектоники «советского», надстраивающихся друг над другом и накладывающихся друг на друга; представление о советской культуре как о многомерной и многослойной (как минимум пятиуровневой) структуре, все элементы которой взаимосвязаны тем или иным образом между собой, – оказываются возможными и неизбежными лишь при условии размещения метаисторической точки зрения на «советское» – вне «советского», за рамками советской культуры как целого, за пределами советской истории, то есть во внесоветском ценностно-смысловом пространстве, в контексте принципиальной вненаходимости по отношению к истории русско-советской культуры [17], в том числе вненаходимости медиальной.
Позднесоветская культура: от старых медиа – к новым
Все особенности культурно-цивилизационного развития России в ХХ веке отразились и в истории русско-российской культуры ХХ века. Принципы архитектоники культуры применимы и к истории русской (а также в целом российской) культуры прошлого столетия. Русская культура ХХ века включает в себя: советскую культуру (это ее культурно-цивилизационное «ядро», во многом определяющее – позитивно и негативно – ее специфику), а также, по принципу дополнительности, различные версии русской внесоветской культуры – культуру досоветскую, несоветскую, антисоветскую, околосоветскую (в том числе советский андеграунд) и, собственно, постсоветскую [18].
Досоветская культура – это русская классика XIX и начала ХХ века и культура Серебряного века, то есть дореволюционная культура (также ставшая сегодня классической). Несоветская и антисоветская культура – это культура русского зарубежья, то есть, прежде всего, эмигрантская русская литература, внутри которой зрели разные настроения, построенные либо на симпатиях и интересе к Советской России (и ее культуре), либо на антипатии ко всему советскому (включая советскую культуру). Но обе эти разновидности несоветской культуры могли существовать (только в более скрытой форме) и внутри Советской России (в качестве «внутренней эмиграции»). Например, творчество А. Ахматовой и М. Булгакова 1920-х и 1930-х годов было явно не советским, а поэзия и проза Д. Хармса (и других обэриутов) во многих случаях (завуалированно) и антисоветским. Сюда нужно отнести и диссидентскую литературу (например, запрещенные для печати произведения А. Солженицына, Ю. Домбровского, М. Булгакова, В. Войновича и других, распространявшиеся в самиздате и тамиздате).
В более позднее время (оттепельное и послеоттепельное) можно было – с известной долей условности – считать стихи и песни Б. Окуджавы несоветскими, а поэтические тексты А. Галича и многие – Ю. Кима – антисоветскими. В то же время многие тексты авторской песни 1960-х и 1970-х годов были «околосоветскими»: с одной стороны, они отражали советские реалии и настроения, с другой – отражали их с неофициальной и критической точки зрения (песни Ю. Визбора и особенно В. Высоцкого). В 1920-е годы таких текстов было тоже много: рассказы М. Зощенко и И. Бабеля; произведения А. Платонова и П. Романова были, по большей части, именно «околосоветскими», что позволяло их, в случае необходимости, интерпретировать с официальной точки зрения как несоветские и даже как антисоветские. Сюда же примыкают и поэтические тексты позднесоветского андеграунда (например, русского рока). Впрочем, некоторые из позднесоветских текстов русской литературы, входившие в размытую категорию «околосоветских», вскоре плавно перетекли в русло постсоветской культуры 1990-х.
Все эти составляющие русской литературы и культуры ХХ века могут быть представлены не только как линейно и нелинейно (например, разветвленно) построенный литературный (и любой иной культурно-исторический) процесс [19], но и как архитектоника, в составе которой исторические этапы надстраиваются друг над другом в виде ступенчатой пирамиды и вступают друг с другом в различные отношения. При таком («вертикальном») видении истории русской культуры как архитектоники становится очевидно, что различные историко-культурные этапы (ступени) литературного, художественного и идеологического развития врастают друг в друга, то предвосхищая и высвечивая ближайшее будущее, то отбрасывая тень на недавнее прошлое. С этой точки зрения, несомненными представляются не только дискретность советского литературного и в целом культурного процесса, выраженная в этапах/ступенях культурно-исторического развития литературы, искусства, общественной мысли и тому подобного, но и его непрерывность, проявляющаяся в росте культурной рефлексии, накапливаемой и обобщаемой от одной ступени смыслового развития к другой, от второй – к третьей и так далее [20].
В этом смысле, при всей противоречивости и взаимоотталкивании этапов/ступеней советского, переход: от революционного этапа 1920-х годов к сталинской эпохе, от нее – к оттепели, от оттепели – к брежневскому застою и всему позднесоветскому этапу, а от него – к перестройке – характеризуется каждый раз ростом и укреплением культурной рефлексии, в том числе критическим пониманием сущности советского (в единстве положительного и отрицательного значений), от одного этапа к другому постоянно корректируемым и подсознательно обобщаемым. При этом рефлексия советского не только протягивает далекие связи между этапами / ступенями советской архитектоники, тем самым как бы сшивая противоречивые фрагменты советской культуры в единое целое, но и постоянно трансформируется и деконструируется, приобретая формы то монтажа, то игры, то постутопии, то насилия, то гротеска, то платоновской «хоры», то видеоклипа, то диджитал-сторителлинга [21].
Эта дискретная культурная рефлексия советского аккумулировалась, в основном, в различных медиа – печатных и электронных, вербальных, визуальных и аудиальных. Причем критическая рефлексивность, по мере ее концентрации и роста, все в большей степени находила свое выражение в невербальных (то есть визуальных и аудиальных) формах, более многозначных в интерпретации и менее подвластных политическому цензурированию. Связывают воедино эту фрагментированную картину мира в конечном счете именно медиа, в том числе особенно эффективно – новые медиа, способные объединять разнородные тексты и контексты, идеи и образы, ассоциации и иллюзии. Современная полиэкранная медийная среда неслучайно характеризуется в терминах: «повседневное многомирие», «культурно-регламентационная коммуникация», «цифровой иллюзионизм», «культура неотрецензированного большинства», «гибридные видеоформы» и тому подобное [22].
К концу советской истории противоречивое обобщение медийных представлений о советском достигло наибольшей зрелости, что и подготовило постсоветский период, для которого характерно переживание советского как прошлого и внеположного, уже отделенного от современности и воспринимающегося представителями текущей русской культуры извне, в той или иной мере отчужденно. Опосредованность восприятия советского различными медиа подчеркивает сегодня его отдаленность и невозвратимость.
Поворот позднесоветской и постсоветской культуры к медиальности претерпел несколько характерных этапов. Исторический контекст культуры быстро менялся и находил свое отражение в каждом тексте культуры. При этом вместе с выдвижением на первый ряд общественных интересов той или иной разновидности массмедиа трансформировался сам характер медиальности. Соглашаясь с тем, что каждое произведение культуры является, по У. Эко, открытым своему контексту [23], мы видим, как массмедийный (точнее – мультимедийный) контекст по-своему вторгается в каждое произведение культуры и накладывает свою специфику на содержание и форму этого произведения (относится ли оно к политике или философии, публицистике или литературе, театру, кино, музыке и тому подобному) [24]. В результате новости оборачиваются манипуляцией, научное открытие – сенсацией, произведения искусства – развлечением, информация – рекламой. Все феномены культуры, пропущенные через призму массмедиа, приобретают превращенный характер и меняют свой смысл и значение.
В конце 1980-х годов, на волне общественного подъема и гражданской активности периода перестройки в СССР, господствующим медийным контекстом была газетная и отчасти журнальная периодика [25]. Структурную доминанту тогдашней системе массовых коммуникаций задавали газеты (лидер – «Московские новости», редактировавшиеся Е. Яковлевым) и многотиражные журналы общего типа (лидер – «Огонек», который редактировал В. Коротич). Однако и литературно-общественные журналы того времени, публиковавшие прежде запрещенные, а ныне возвращенные литературные произведения писателей-диссидентов, эмигрантов или жертв сталинского террора, достигали тоже невиданных по массовости тиражей. Так, главный интеллигентский журнал оттепельного и застойного времени «Новый мир» (под редакцией С. Залыгина) в год первой публикации «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына (1990) достигал 4 миллионов экземпляров (непревзойденный рекорд! – для сравнения: сегодня тираж «Нового мира» не превышает 2 тысяч экземпляров).
В перестроечный период газетно-журнального «бума» все разновидности художественной, познавательной, популярной культуры подстраивались под тональность политически заостренной публицистики. Например, Т. Толстая регулярно писала высокохудожественные эссе в «Московские новости», С. Залыгин публиковал экологические статьи о «повороте рек», Ю. Карякин – эссе на темы «культа личности» и уроков Достоевского для ХХ века, В. Ерофеев отмечал «поминки по советской литературе», заводившие апологетов соцреализма и тому подобное. Даже Солженицын оторвался от трудов по созданию титанического «Красного колеса», чтобы поделиться с советским читателем своими соображениями о том, «как нам обустроить Россию» [26].
Театр времен перестройки был «заточен» на публицистику. Зрителям не надоедали бесконечные реинтерпретации «революционных этюдов» М. Шатрова и «производственных» пьес А. Гельмана. Именно эти произведения «публицистического театра» задавали общую планку театральным и кинематографическим исканиям конца 80-х – начала 90-х годов. Словесная публицистичность перекинулась и прямо в кино; особенно показательны здесь фильмы Э. Климова («Прощание с Матерой», «Иди и смотри») и Г. Панфилова («Прошу слова»). Разговорный публицистический жанр («ток-шоу») в это время доминировал и на телевидении (программы «Взгляд», «Пятое колесо», «До и после полуночи», «Тема», «Про это», первые телемосты).
Активизировалось в это время и радио, было совсем отошедшее на задний план общественных интересов: в это время радиокоммуникации возродились в онлайн-режиме, и подготовленные радиоведущие оживленно общались на разные, в том числе и политические темы с наиболее активными слушателями, дозванивавшимися до радиостудий. Среди стремительно умножившихся в это время радиостудий, радиоканалов, тематических радиопередач уверенно лидировало оппозиционное и свободолюбивое «Эхо Москвы», во многом ассоциировавшееся, по уровню дискуссионности и проблемности, а также по качеству журналистского материала с радио «Свобода» и другими – еще совсем недавно «вражьими голосами»: BBC, «Голос Америки», «Немецкая волна» и другими зарубежными радиостанциями. «Эхо Москвы» отличали смелость постановки социальных и политических проблем, актуальность и злободневность содержания передач, плюрализм мнений, открытость и оживленность дискуссий, профессионализм ведущих.

