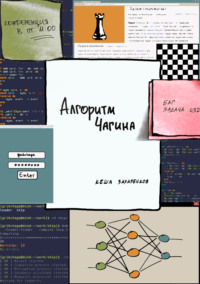полная версия
полная версияИннокентий едет в деревню
Если бы это помогло, я бы с радостью.
– Расслабься. Везде свои плюсы есть.
Кролик выпил рюмку и потянулся за бутылкой. Я так низко пал, что больше не гнушался его обществом.
– Какие, например?
– Ну вот сидишь, пьешь. Плохо разве?
– Плохо, – ответил я.
История моего поисковика состояла из запросов «почему так плохо» и «что теперь делать».
Но в моей голове по-прежнему было пусто. Никаких ответов, одни вопросы.
– Тебя хоть что-нибудь волнует? – спросил я.
Кролик выпил.
– Хочешь поговорить об этом?
Я махнул рукой.
2.9.3. Где моя самурайская сабля
– Знаешь, я как-то бездомной кошке сосиску снесла. Та не съела, понесла котятам. Котята на чердаке. И вот она на дерево, а сосиска в зубах. С дерева по веткам до чердака. Голодная, но такое у нее сердце большое. Я смотрела на нее, и мне горько, и сладко.
Лизетт уставилась в землю и покраснела. Мы сидели на скамейке перед ее домом. Внутрь меня не пригласили.
– А на тебя смотрю, и ничего не вижу. Ты, наверное, можешь таким быть, точно можешь. Но пока не такой.
– Лизавета! – прервал идиллию отчим Лизы. – Иди, мать зовет. Слышишь?
Девушка устало поднялась.
– Пожарила она рыбу тебе? – спросил Павел Никифорович, подходя ближе. – Лизавета?
– Пожарила, – сказал я.
Павел Никифорович пошел обратно к дому.
Я смотрел на гнездо на водонапорной башне и размышлял, что забыли аисты в глухой деревне, когда могли выбрать любое место на земле. Что я здесь забыл.
– Знаешь, – вернулся старик, – она ведь такая, Лизаветина мать. Послушная. Смирная. Как с такой бабой сладить?! Никак. Слышу, плачет. Тихо плачет и молится. Ну думаю, зря она. А потом стал замечать… не тянет меня к бутылке.
Павел Никифорович словно оправдывался.
– И так подхожу и этак, а не хочу. Из каких стаканов только не пил, не лезет и все.
Я посмотрел на отчима Лизы, и в голове у меня щелкнуло. «Не может быть, – подумал я. – Этого просто не может быть».
– Так что ты это… Ты не думай, что это…
В моей голове бился вопрос: «Где моя самурайская сабля, чувак?»
2.9.4. Атака Лизетт
Узнав, кто передо мной, я понял, что мне казалось знакомым в Павле Никифоровиче. Походка была неуверенная. Перестав пить, дядя Паша не сумел полностью восстановить координацию движений.
Я уставился на отчима Лизы, признавая в нем человека, которого бабушка безуспешно направляла на путь истинный.
Лицо было более-менее нормального цвета, подбородок – чисто выбрит, а заплывшие глаза раскрылись. Он больше не прятался, не шаркал ногами, старался не сутулить спину. Не знаю, полюбила бы его бабушка в таком виде.
– Чего глядишь? – смутился дядя Паша. – Ты не думай, я рассердиться могу. Я тебе все объяснил, как человеку. Твое дело услышать и забыть.
Павел Никифорович скрылся из виду. Я встал со скамейки.
– Уходишь?
Лиза стояла на крыльце.
– Я и не знал, – сказал я.
– Чего?
– Не узнал его. Видел, но даже в голову не пришло.
– Антонина Глебовна на мать не сильно обижалась, – сердито бросила Лиза, – ты не думай.
Мы снова сели на скамейку.
– Он тебя любит. Когда ты приехал, сразу сказал хлопотать. Если бы не так, сидел бы целыми днями голодный. И в деревне о тебе только хорошее говорит. А ты этого заслужил?
«Лизетт явно не в мать пошла. Она не прятала боль, не плакала по ночам и не спасала мою душу исподтишка. И уж точно она не молчала».
2.9.5. Исчезновение Алисы
Если верить Алисе, она была специалистом по падениям. Она не стала бы отчитывать меня за безнравственные поступки. Обозвала бы дураком и потеряла интерес к истории. Искреннее равнодушие Алисы было сильнее моих переживаний.
Мне этого не хватало. Уверенности в том, что моя судьба не заслуживает внимания.
По пути к дому Алисы я успел задать себе три вопроса: как приветствовать ее деда; как объяснить ему полную незанятость в разгар дня и как скрыть явный интерес к девушке.
Но, подойдя к калитке, я увидел замок. Ставни на окнах были закрыты, в почтовом ящике лежало письмо.
«Дедушка сказал, чтобы я написала записку. Я уезжаю. Алиса».
В ящике лежал карандаш. «Привет, – написал я на обратной стороне листка. – Жаль. Дайте знать, когда вернетесь».
Я положил письмо и пошел, неся разочарование к дому Чудика.
Куда могла уехать Алиса? Вернулась в Петербург? Но куда уехал дед Алисы?
Может, они отправились к тете, которая работает в библиотеке и любит книги? А куда они дели кошку?
Какой заботливый дед! Если бы не он, я бы и записки не получил. Хотя, кто знает, кому она на самом деле адресована?
2.9.6. Удовольствие
– Из-за того что ты холишь и лелеешь свою скотину, к тебе как к дураку относятся, – сказал я, наблюдая, как Чудик в зеленой шапочке гладит корову и вплетает ей в хвост цветы. – А то и хуже.
– Кто тебя разозлил? – улыбнулся Чудик.
Мне стало стыдно:
– Но ведь это правда. Зачем корову гладить?
– А как иначе?
– Как все.
– Убивать животных нельзя, – сказал Чудик. – Это наши братья. Как можно убивать братьев?! Вот коров, например. Ты знаешь, что в Индии корова – священное животное? А ты – убивать. Посмотри на нее, посмотри на Рати. Как ее можно убить. У нее есть имя. Рати с индийского удовольствие. Как можно убивать удовольствие?!
– Не убивать коров ты мог и в городе. Зачем в деревню приехал?
– Если бы я остался там, кто бы заботился о коровах?! Ты сегодня одни глупости говоришь.
Я промолчал.
Чудик немного подумал.
– Тебе не приходило в голову, что не выделяться сложно. Ты этого не замечал?
– Нет, – покривил душой. Я не сделал ничего, чтобы заслужить внимание, а уж тем более – ненависть, деревенских. Не хотел, но оказался под светом их прожекторов, хотя предпочел бы незаметное, спокойное существование.
– Хотя, – продолжил Чудик, – выделяться тоже сложно. Но я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что Рати сегодня чудесно выглядит.
2.9.7. Фиаско
– Я хочу разорвать договор аренды!
– Это почему? – спросил Зиновий Аркадьевич.
– Потому. Я хозяин участка. Могу я или нет?
Председатель деревни устало рассмеялся. Он сидел на скамейке рядом с клубом и надеялся избавиться от меня как можно скорее.
– Поди лучше отсюда.
– Нет, – твердо сказал я.
– Да ты знаешь, чего хочешь?! – рассердился председатель. – Сан Саныч дело делает, работу дает. Сейчас уже народ получает за охрану, за посев, за полив. А потом пойдет – и жать нужно, и бочки, и продажа.
Я был не согласен. Я видел разбитые машинами Высокого Папы дороги, пил взбаламученную рабочими воду из колодца. Это ли возрождение жизни в деревне?!
– Так всегда бывает. Хочешь взять, сперва дай.
Я подумал о взятке. Зиновий Аркадьевич прочел мои мысли.
– Не хватит, – сказал он.
2.9.8. Достоинство
– Нужно же что-то делать. Нельзя так оставить!
Павел Никифорович нахмурил лоб.
– Вспомни, сколько бабушка для тебя сделала, – надавил я.
Он остановился посреди дороги, поставил ведро с водой и повернулся ко мне.
– Я помню. Вчера встал – помнил, сегодня – помню. Завтра встану – помнить буду. Что было, то было. Не просто все.
Я обомлел.
– Бабушку обидели, а ты говоришь, не просто!
– Да пойми, что я говорю! – рассердился дядя Паша.
– Что, например? – задохнулся я.
Я думал, он обвинит меня в том, в чем я себя обвинял, но Павел Никифорович оказался благороднее:
– Будь покоен, все еще много раз поменяется. Хочешь ты или нет.
– А как же чувство собственного достоинства?
– Зачем тебе чувство?
Павел Никифорович схватился за ручку ведра.
Я тонул в одиночестве. Никто не собирался тонуть вместе со мной.
– Ты человек взрослый, – сказал дядя Паша, – сам разберешься.
Не знаю, как долго плакала Лизина мать, но результат был ошеломляющий. Теперь я сердился не только на Высокого Папу, но и на дядю Пашу.
2.9.9. Ментальное преступление
Мат стоял в груди, подходил к горлу, срывался с языка.
Я ходил кругами вокруг пшеницы. Представлял, как яростно топчу ее, как она гибнет.
Высокий Папа нанял дополнительную охрану, и теперь на участке постоянно находилось по два-три человека. И чем быстрее росла пшеница, тем зорче за мной следили.
Я мечтал, что Высокий Папа опростоволосится. Что из его идеи пивного порабощения ничего не выйдет. Что Высокий Папа прогорит.
Но пшеница росла. И горю моему не было предела.
Я представлял, как Высокого Папу изгоняют из деревни. Уличают в подлости, ловят на обмане, обвиняют в страшных преступлениях.
Но пока единственным преступником на округе был я.
2.10. Горы
2.10.0. Праздник
– Деревья, которые много лет стоят и все помнят. Пушкина помнят. Ходишь по земле, по которой он ходил, – это и есть праздник. Праздник души.
– Понятно, – сказал я.
– Современники Пушкина там ходили. Такие озера, воздух, райское место! Нигде такого нет больше.
– Ясно.
– И день рождения Пушкина только раз в году бывает!
– Да, – сказал я.
Лизетт отступила.
– На автобусе поедешь?
– Наверное.
– Я соберу в дорогу.
Я вышел из дома и отправился к пшеничному полю. Завидев меня, Ленька напрягся.
– У тебя отпуск, – сказал я.
Мальчишка недоверчиво сверлил меня глазами.
– Я уезжаю. В Пушкинские Горы.
К Алисе.
2.10.1. Картонный Пушкин
День Рождения Пушкина, как уверяла Лизетт, бывает только раз в году.
Но меня не интересовали экскурсии по Пушкинским Горам, я не собирался вздыхать у реки Сороть, фотографироваться на скамейке Онегина. Мне не хотелось смотреть на трость у камина и гусиное перо на столе и ждать, что в домик няни вот-вот войдет поэт.
Я не пошел на концерт, не видел спектакль. Не бродил по выставкам, не принимал участие в конкурсе «Мой Пушкин» и мастер-классах по рифмоплетству. Я не смотрел, как девушки в русских сарафанах и мужчины в народных платьях водят хороводы и запускают в небо воздушные шарики. Не слушал, как они поют романсы на стихи Пушкина, читают стихи и частушки. Не встречал мальчишек и девчонок с нарисованными аквагримом бакенбардами на висках.
Я бродил по Пушкинским Горам в поисках Алисы.
И понял, что Лизетт была права. Чтобы что-то понять в Пушкине, нужно было остаться с ним наедине.
Казалось, дух поэта витает в заповеднике. В любое время, в любую эпоху. Старинный дух времени. Не выветрился до сих пор.
Я встречал Пушкина на мостике через реку, видел его на опушке. И не всегда это был мираж. Вырезанный из картона, он стоял у дороги с букетом цветов. Пригорюнившись, сидел на берегу босой. Босой, но в котелке.
Это был «Мой Пушкин». Я сел рядом, обнял его и загрустил. Подумал и снял ботинки. Из солидарности. Негоже русскому поэту, драматургу и прозаику, одному сидеть без обуви.
Так мы и сидели до вечера.
Тогда я надел ботинки и встал. В пояс поклонился картонной фигуре. Сказал «спасибо».
2.10.2. Кто такая Алиса
– Я Вас там не нашел. Ни Вас, ни Вашего деда, ни тети, что любит Пушкина.
Поездка в Пушкинские Горы плохо сказалась на настроении Алисы. Она была грустной, молчала. Я затосковал по гадостям и колкостям, которыми девушка одаривала меня раньше. Мне не хватало ее рассерженных интонаций.
– Я смотрела балетное выступление, – сказала Алиса, и голос ее дрогнул. – Маленькие девочки в пачках, гуськом выходят на сцену.
Я затаил дыхание
– Я так больше не могу.
Алиса расплакалась.
И в ту же секунду я вспомнил, что Алиса прихрамывала на правую ногу, когда мы искали в поле черную кошку Дину. Девушка не ела блины, каждый день обливалась холодной водой и всеобщую ненависть к себе считала доказательством успеха.
Алиса была балериной. И однажды она упала. И с тех пор, как упала, она больше не поднималась.
2.10.3. О любви как о проблеме
Я никогда не знал настоящую Алису. Общаясь с ней, я имел дело со сломанным человеком, изо всех сил пытающимся вытерпеть поражение. И до сих пор этого не понимал.
– Влюбленность – как вина выпить. С первым глотком по телу проходит волна тепла, и ты чувствуешь приятные изменения. Но это лишь намек. Здесь можно остановиться, и никаких последствий. Второй глоток ты делаешь, понимая, на что идешь. Ты знаешь, что будет дальше. И соглашаешься на все.
Алиса легла на живот и положила голову мне на грудь.
– Некоторые всю жизнь влюбляются на уровне первого глотка, – сказала Алиса, – а некоторые еле-еле справляются с похмельем.
– Что же бывает в промежутке?
Я усиленно пытался понять Алису, но мне нужно было время. Нагромождением слов она закрывалась от меня, и я не мог ее прочесть.
– Промежуток – ни то ни се. Этакое безвылазное болото. Хотела бы я найти золотую середину, но боюсь, это один из тех вопросов, которые человек не может решить. И все это ради его собственного счастья.
– Почему? – спросил я скорее по инерции, чем из любопытства.
– Потому что любовь ради счастья другого.
Я закрыл глаза и попытался вообразить Алису до падения. Я что-то безвозвратно потерял и не знал, что именно.
– Вы все воспринимаете, как проблему. И любовь для Вас проблема. Может, любое чувство? Страх, голод?
– А разве это не проблема, когда человек боится и все время хочет есть? – рассмеялась Алиса. – Я думаю, большинство людей со мной согласны.
Меня пронзила жалость.
Алиса без цели. Алиса без смысла. Потерянная Алиса.
Она бродила ночью одна по округе, ела все, что кладут на тарелку, и постоянно оказывалась в моей постели. Я думал, ей не было до меня дела, но дела ей не было до себя.
– Любовь – это большая проблема, – сказала девушка.
– Невзаимная любовь. Может, Вы никогда не любили?
– Любила. Но он мне не пара.
Мы с Алисой были похожи. Никого мы не любили больше, чем себя. И никого так же сильно не ненавидели.
– Боюсь, Вам трудно будет ее найти, – усмехнулся я почти беззлобно.
– Ну вот Вы, например. Нашли Вы себе пару?
Я кивнул. Я нашел, только она не парная. Как второй левый ботинок.
2.11. Страшное желание
2.11.0. Стихия
Я сидел с чашкой чая на лавке возле дома. Считал безотрадные мысли, что приходили в голову. О деревенской жизни, о безделье, об Алисе.
В самый разгар уныния что-то больно ударило по уху.
Я вскочил, расплескав чай.
Что это? Кто это?
Ухо жгло от боли.
Я озирался по сторонам. Ничего и никого.
Только я решил сесть обратно, ударило в лоб.
От меня отскочила прозрачная горошина. Наклонившись, я нащупал ее в траве.
Холодная градина. Размером крупнее гороха.
2.11.1. По заслугам
Я смотрел, как огромные шарики, переливающиеся на солнце, отскакивают от порога.
Когда град закончился, я вспомнил о Леньке. Сообразил ли он укрыться в амбаре?
Мальчишка стоял посреди пшеничного поля, понурив голову.
– Померла, – сказал он.
Земля, а вместе с ней и ростки пшеницы, была усыпана ледяными горошинами. Я передернул плечами, вспомнив, как больно они падали за шиворот.
Но не успел Ленька выйти за калитку, как показался Высокий Папа.
Лицо у него было красное, опухшее.
Он мычал, махал руками.
Припав к земле, попытался очистить участок от градин. Отбрасывал лед, искал выжившие ростки.
Он был в бешенстве, он был в горе.
Я стоял рядом, готовый утешить. Но Сан Саныч быстро взял себя в руки. Он встал, злобно выдохнул:
– Ты мне заплатишь!
И добавил:
– Заплатишь за все!
Словно я виноват в природном катаклизме. Словно целыми днями танцевал с бубном, чтобы град побил его урожай.
– Ууу, – сказал Высокий Папа.
Убежал, но на полпути вернулся. Опять сказал: «Ууу». Помахал кулаком в воздухе.
Я думал, что хочу поражения Сан Саныча, думал, буду улыбаться при крахе его дела. Но вместо радости чувствовал стыд.
Как ни убеждал я себя, что не виноват, муки совести говорили. Говорили, что я был ментальным врагом пшеницы. Что деревенские остались без работы и зарплаты. Что дороги разбиты, а вода в колодце мутная.
2.12. Судилище
2.12.0. Общественный суд
Считанные часы, и деревня была поставлена на уши. На пшеничное поле пожаловала инспекция в лице Данилыча, подслеповатого деда с окраины и сельского старосты Зиновия Аркадьевича. Должностные обязанности последнего включали борьбу с разного рода стихийными бедствиями.
Действовал председатель четко. Потоптался по прибитым к земле росткам, пару раз вздохнул, почесал затылок.
Высокий Папа не сводил с меня злобных глаз. Он не только махнул рукой на остатки здоровой пшеницы, гибнущей под сапогами председателя, но и сам ее топтал.
Наконец Зиновий Аркадьевич откашлялся и, явно играя на собравшихся за забором деревенских, набрал воздуха в грудь. Он был готов говорить.
Высокий Папа, ожидая, что пришла моя очередь быть растоптанным, тоже задержал дыхание.
– Налицо, – начал председатель, – имеется некоторое, скажем так, вредительство.
Народ за забором издал согласный гул.
– Но причина вредительства не ясна.
– Как это – не ясна?! – воскликнул я. – Не я же этот град устроил.
– Ему слова не давали! – зло крикнул Данилыч.
Председатель громко продолжил:
– Глянем в договор! Его не просто пишут, а как раз для таких случаев.
Я почувствовал, как зеленею от злости.
– В договоре написано: «Арендодатель несет полную ответственность за предоставляемую в аренду землю, охраняет ее и ее содержимое от посягательств».
– Что?!
– Что ты голосишь? Это договор, тобой подписан. Ты Захаренков Иннокентий?
Зиновий Аркадьевич сунул мне бумагу под нос, и я вырвал ее из рук. Невидящими глазами побежал по строчкам.
– Но в договоре не написано, какой штраф положить, – сказал председатель.
– Как это не написано?! – закричал теперь Высокий Папа.
Он подскочил ко мне и попытался выхватить договор. Отпрыгнув в сторону, я показал язык.
Это вмиг меня отрезвило. Я понял, что постоянно оказывался в ответе за то, чего не совершал.
– Интересно, – сказал я. – Во втором пункте написано, что я даже зайти на участок не имею права. Как же мне его охранять?
– Ну, – протянул председатель, возвращая себе договор, – ответственность ты нести должен. А по всему выходит, что не несешь.
Зиновий Аркадьевич почесал репу.
– Вот что, – закруглялся он. – Отдай Сан Санычу денег за аренду. А лист этот порвем, и дело с концом.
Народ опять согласно загудел, но с меньшим удовольствием.
Высокий Папа смерил председателя высокомерным взглядом. Данилыч, хозяин злополучной лошади, роптал.
– Пусть штраф платит, – сказал он Зиновию Аркадьевичу. – Скажи ему, ты же староста.
– Нет у него такого права – штраф назначать, – сказал я, – в договоре не указано.
– А то у меня случай был, – начал Зиновий Аркадьевич, – лет десять назад. Один товарищ решил, понимаешь, козу отдать. Она у него буйная была, аж жуть.
Высокий Папа пошел с участка, гордо подняв голову.
– И вот он, значит, по соседям ходит – никому не нужна. Даже задаром. Он в другую деревню пошел. А мимо санитары из психушки. Он им козу хотел отдать, а они его самого забрали. Через несколько лет выпустили, но все зря. Шатался без дела. Потом спился и умер. Говорят, жена его санитаров звала.
– Надо было жену отдавать, – сказал Толик, – а не козу.
– Надо было! – согласился Зиновий Аркадьевич. – Но где уж теперь.
– А с козой что стало? – спросил я.
– Что, что! Ничего.
2.12.1. Суд Леньки
Если его не было на пшеничном поле, значит он сидел в луже. Мы все сидели в луже, и в первую очередь – Высокий Папа.
Я вышел на дорогу и увидел Леньку.
– Она что, никогда не высыхает? – спросил я, подходя ближе.
Мальчишка поднял на меня полные слез глаза.
– Высыхает, – ответил он и в свою очередь спросил. – Ты что, дебил?!
И зарыдал во весь голос. Что ты будешь делать, когда доверенная пшеница погибает, любимая лужа высыхает, а вокруг одни дебилы?!
– Слушай, приятель, – начал я. – Не обращай на Сан Саныча внимания. Ну покричит и перестанет.
– Тут все рады, когда урожай, – Ленька высморкался в рукав и сопли по всему лицу растер. – А ты рад, что его больше нет.
Сын Анны Павловны выпрыгнул из лужи и помчался домой.
Смотря ему вслед, я вспомнил, как мальчишкой бегал по лужам – и, может, даже этой – в голубых резиновых сапогах. Чем больше брызг, тем счастливее я. Ту радость ни с чем не сравнить, даже с поражением злейшего врага. Но с возрастом доступно все меньше и меньше наслаждений, выбирать не приходится.
2.12.2. Суд Лизетт
– Прости меня, – сказала Лиза.
Узнав о гибели пшеницы и общественном суде, она отмыла дочиста мой дом и приготовила котлеты.
– За что? – спросил я.
– Наговорила тогда… Бессовестная.
– Ничего.
Девушка вгляделась в мое лицо.
– Тебе плохо? – с сочувствием спросила она.
– Бывало и лучше, – улыбнулся я.
Она привстала на цыпочки и поцеловала меня в щеку.
Ничего легче этого поцелуя со мной не случалось. Он был приятным и неожиданным.
Лиза опустила голову. Я смотрел на ее макушку и пытался собраться с мыслями. За окном просигналил автомобиль.
Лиза подняла на меня блестящие глаза и улыбнулась. Я совсем растерялся.
Я не мог понять, как у женщины получается, повиснув на шее мужчины, снимать груз с его души.
Мне захотелось обнять Лизетт, но снова раздался автомобильный гудок. Наверняка соседские куры разбрелись по дороге и мешают водителю проехать.
Я оглянулся на окно. Момент был упущен.
2.12.3. Приговор
Я открыл калитку и ступил на землю. Паутина побитых ростков лежала под ногами. Я присел на корточки и разглядел жуков, копошащихся в мертвечине пшеницы.
Но судить себя я не собирался.
Я уже вынес приговор. Осталось привести его в исполнение.
2.13. Для счастья и для боли
2.13.0. Исполнение приговора
Пару раз взмахнул граблями – вспотел.
Сто раз – устал.
Двести – руки в мозолях.
Отправился в сарай за рабочими перчатками. Нашел задубевшие от грязи бабушкины. Надел, вернулся обратно.
Я махал граблями до темноты.
Одежда пропахла потом, волосы прилипли ко лбу. От напряжения дрожали руки и ноги.
Я ополоснул лицо из рукомойника, съел горбушку хлеба и лег на кровать.
Сон не шел. Перед глазами мелькала желтая паутина погибшей пшеницы. Я тщетно убирал ее с поля: чем больше старался, тем пышнее она разрасталась. Пшеница росла и росла, показались зерна, а я все выкорчевывал ее и топтал колосья ногами.
2.13.1. Провинность
Спина болела, руки ныли. Вчера я был полон сил и хотел поскорее очистить землю, сегодня я не понимал, зачем это нужно.
Нашел грабли брошенными у калитки, взял их и отправился работать дальше. Словно выполняя какую-то провинность.
За предыдущий день я не убрал и десятой доли. Ощущая в голове пустоту, я принялся за работу.
К полудню смертельно устал и проголодался. Никто не приходил справиться о делах, никому я не был нужен. Мое отсутствие во внешнем мире ничего не изменило.
2.13.2. Разделенные забором
Третий день я упрямо махал граблями, избавляясь от следов пребывания на земле Высокого Папы.
Я ждал Алису. Знал, что она придет.
Я чувствовал ее на расстоянии. Мог с уверенностью сказать, в каком настроении проснулась, как себя чувствует, думает она обо мне или нет. Конечно, нет.
– Эй! – сказала Алиса.
Она стояла за забором и смотрела недобрым взглядом.
– Я Вас всюду ищу! – взглянула на часы. – Уже пятнадцать минут.
– Извините, – сказал я.
Она продолжила сверлить меня взглядом. Я бросил грабли и подошел к забору.
– Я уезжаю. Подумала, нужно сказать. А то опять решите, что только о себе и думаю.
Тяжелая земля стала уплывать из-под ног. Алиса вновь посмотрела на часы.
– Куда? – спросил я.
– В Петербург
– Когда?
– Завтра.
Платье на Алисе было премилое: розовый облегающий верх и пышная юбка. Волосы девушка забрала лентой. Казалось, это чудо откроет рот, и польется нежная речь. Но сыпались слова, больно ранящие душу.