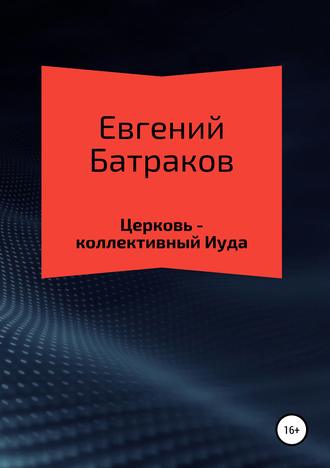 полная версия
полная версияЦерковь – коллективный Иуда
Тайная Вечеря, напомню, это событие, случившееся незадолго до крестных мук Иисуса, на которой Он, как свидетельствуют евангелисты, установил Евхаристию: «И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» [46].
Почему для нас так важно̀ это событие – Евхаристия? Потому что, как совершенно верно подметил митрополит Иларион (Алфеев), «вокруг Евхаристии стала постепенно выстраиваться вся богослужебная жизнь Церкви» [47], и потому, что это таинство – основа для становления человека, как христианина. Если же основа с закваской, которая заквашивает все тесто, то и все на ней возлежащее – брожение, распад, дегенерация.
Именно это происходило и продолжает происходить вот уже две тысячи лет…
Христианство зародилось в I веке в Палестине. Адептов нового учения была горстка, да и ее-то отовсюду гнали, и всюду преследовали. Достаточно сказать, что из 12 апостолов Христа 11 погибли мученической смертью, и только один – Иоанн умер в своей постели. Хуже того, вербовка в адепты долгое время особого успеха не имела. Например, когда «апостол» Павел пришел в Троаду (Александрия), то для преломления опресноков все его сторонники уместились в одной-единственной горнице (Деян. 20:8). Так оно ж и понятно, ведь даже те, немногие и нестабильно действующие общины, которые существовали, были не только автономны, но еще и разобщены, а одинокие странствующие проповедники – апостолы (не ученики Христовы), пророки (не в том смысле, как они упоминаются в Ветхом Завете) и дидаскалы, т. е. учителя действовали совершенно бескорыстно и на абсолютно голом энтузиазме. Им не принадлежала административная власть в общинах первых христиан, у них не было постоянного местожительства и собственности. К тому же они еще должны были соответствовать «Учению 12-и апостолов»: «Апостол, отправляющийся в путь (после однодневного пребывания в какой-либо общине), не должен ничего брать, кроме хлеба, сколько нужно до дальнейшей переночевки; но если он потребует денег, то он лжепророк» [48].
Конечно, одной только силою слова, даже если это Божье слово, с помощью разрозненных, бессистемно действующих одиночек, образумить и наставить на путь истинный народные массы, живущие на Земле, где господствует произвол государства и установлен приоритет материальных ценностей, где миром правят деньги, а каждый жив лишь хлебом единым, делом было совершенно невозможным. Миссия не выполнима. К тому же, сами посудите, велико ли было искушение для хоть что-то имущих и в некотором спокойствии пребывающих, когда пред ними появлялся голодранец, до безобразия исхудавший человечище с пылающим лбом и широчайше распахнутыми глазами, энергично и беспрестанно тыкающий указующим перстом в высокое небо, и твердящий: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах!..» Это – на небесах, а пока что же – ходи в рубище, живи на подаяние, не имея собственного жилища и – молись, молись, молись? Велик ли спрос был на подобный-то образ жизни?..
А коль так, стоит ли удивляться тому, что институт апостолов постепенно захирел и, как утверждал известный историк Церкви А.П. Лебедев (1845–1908), к концу II-го века прекратил свое существование: «Можно думать, что апостолы не перешли черты, разделяющей II век от III-го» [49].
Нет, само христианство не исчезло. Более того, оно, ставшее, фактически, идеологией обездоленных слоев общества, получило широкое распространение. Призрак Иисуса успешно бродил по Востоку и в Римской империи. Успешно формировалась и организационная структура ранней христианской церкви, позаимствовавшая многие элементы синагоги. Все большую роль играли епископы (наставники) и диаконы (помощники), с которыми мы впервые встречаемся в 1-й главе Послания к Филиппийцам святого «апостола» Павла.
Однако положение круто изменилось – произошла бурная интенсификация, когда попечительство над духовной «самодеятельностью» народных масс взяло государство, вдруг разглядевшее в происходящем некие для себя административно-политические, а значит, и экономические выгоды, и решившее поставить вероучение себе на службу.
Возможно самый первый шаг на этом пути сделал царь Великой Армении Трдат III, при котором в 301 году христианство было провозглашено государственной религией страны.
Второй шаг – эдикт, изданный в апреле 311 года, которым лютый гонитель христиан, римский император Гай Галерий дозволил христианам молиться своему Богу и жить беззаботно на своих местах.
Третий шаг – принятие в 313 году римским императором Константином Великим Миланского эдикта, которым государство, фактически, установило опеку над христианством.
И все бы хорошо, но ведь именно с этого периода адепты христианства, сами недавно настрадавшиеся от запретов, гонений и преследований, будто бы взяли реванш за христиан, заживо сожженных, за распятых на столбах, за разодранных львами на арене Колизея – они сами начинают запрещать, гнать, преследовать, разрушать, сжигать, убивать… В частности, христиане, следуя указу императора Феодосия I, разрушили храм Артемиды – одно из семи чудес античного мира; тот самый храм, который в 356 году до н. э. был сожжен Геростратом, но восстановлен на деньги Александра Македонского. Из здания Сената удалили Нику – знаменитую, золотую статую язычницы, богини победы, простоявшую 4 века, не тронутую даже нероновским пожаром. Запретили олимпийские игры. Игры были возобновлены лишь через 11 столетий. Египетские христиане – парабаланы, сторонники епископа Кирилла, в 415 году убили философа, математика, астронома Гипатию Александрийскую: стащили с носилок, приволокли к церкви, содрали одежды, с помощью глиняных черепков расчленили тело женщины на куски и сожгли.
Христианство, так и не ставшее религией любви, терпимости и милосердия, вероучение, совершенно чуждое русскому народу, на протяжении нескольких веков тихой сапой проникавшее в Русские земли, в конце X столетия, наконец-то, обрело статус господствующей религии, и с того момента благодаря своим ревностным адептам заговорило жестко, твердо и во весь голос. И Путята крестил мечом, а Добрыня – огнем, и рушили капища, и низвергали идолов, и обличали веру отцов и дедов, и охотно казнили несогласных… И все это продолжалось на протяжении многих веков. Так, например, летом 1227 года в Новгороде заживо были сожжены четыре волхва (языческих жреца) [50].
Ну, а что, в самом-то деле чикаться? Православие – учение милосердия. Потому-то, видимо, законом святых апостолов, как о том мы узнали из летописи – 1438 год, и предписывалось за допущенную ересь «развратника огнём сжечь или живого в землю загрести» [51].
И сжигали иноверцев заживо, и загребали в землю. И все это к удовольствию православных священнослужителей. Даже таких, как Патриарх Московский и всея Руси Иов, который назвал царя Федора Ивановича «великим самодержцем и истинным рачителем благочестия», потому что он «не единех идол сокрушая, но и служащих им до конца истребляя» [52].
И это, обратим внимание, через 6 столетий после «крещения Руси»!?
И, конечно же, сей истребитель язычников, сокрушитель идолов Православной Церковью был канонизирован, как святой. И Иов был канонизован. Правда, только в лике святителей. На Архиерейском соборе РПЦ в 1989 году.
Об отношении к вере предков и к иномыслию, можно судить еще по такому документу, как Соборное Уложение Царя Алексея Михайловича 1649 года: «1. Будет кто иноверцы, какия ни буди веры, или и Руской человек, возложить хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на рождшую Его пречистую Владычицу нашу Богородицу и приснодеву Марию, или на честный Крест, или на Святых Его угодников: и про то сыскивати всякими сыски накрепко. Да будет сыщется про то допряма, и того богохульника обличив, казнити, сжечь» [53].
Алексей Михайлович, будучи всего лишь царем, и церковники, будучи всего лишь обычными смертными, решили, что они вправе быть еще и непогрешимыми судьями, пребывающими между Богом и человеком, и, конечно же, над человеком, покушаясь при этом на религиозную свободу, бесцеремонно указывали, как, во что и в кого верить. И все это при том откровенно похабном, постыдном, безобразном образе жизни, который они – моралисты-пастыри – сами же и вели.
На эту тему уже сказано и много, и точно, и едко. Поэтому ограничусь лишь несколькими строками из наследия В.Г. Белинского, который в своем «Письме к Н.В. Гоголю», вопрошая стыдит последнего и обвиняет: «…неужели же и в самом деле Вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, колуханы, жеребцы? Попов. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого Вы не знаете? Странно!» [54].
Римские папы, подзабывшие слова Господа, изложенные в Евангелии от Матфея – «Мирись с соперником твоим скорее…» (Мф. 5:25), «Не собирайте себе сокровищ на земле…» (Мф. 6:19), систематически снаряжали военные крестовые походы: десятки тысяч садистов, грабителей, мародеров – меченосцы, тамплиеры, госпитальеры, тевтонские рыцари и прочая алчная нечисть с крестами на плащах, на щитах, на знаменах устремились в чужие земли грабить, убивать, разрушать…
Римский папа Иннокентий III, напрочь подзабывший слова Господа, изложенные в Евангелии от Матфея – «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас» – создал в 1215 году особый церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция». И десятки тысяч инакодумающих были искалечены, замучены, сожжены. Заживо…
И нужно сказать, что этика средневековья не осталась где-то там, во мраке далекого прошлого. Очень даже образованный и цивилизованный наш современник, профессор Московской духовной академии, протодьякон РПЦ А.В. Кураев ничуть не смущается слов своих: «В целом в Европе святой трибунал сжег более тридцати тысяч колдуний. Тоже чудовищно, конечно. Но все же – не миллионы. … Инквизиция была оболгана сначала протестантскими, а затем масонскими авторами» [55].
Как это вам – «все же – не миллионы»?!..
Вне всякого сомнения, в своем аморализме и бесстыдстве г-н Кураев тусуется на одной доске со скандально известной панк-рок-группой «Pussy Riot», которая эпатажа ради 29 февраля 2008 года в зале «Обмен веществ и энергии организмов» Московского Биологического музея им. К.А. Тимирязева, при соглядатайстве представителей СМИ, догола раздевшись, прямо на полу устроила групповуху – случку.
И ведь Кураев в своих людоедских взглядах не одинок – целое издательство «Молодая гвардия» в 2010 г. позволило С.Ю. Нечаеву не просто выпустить книгу «Торквемада», но выпустить в серии «Жизнь замечательных людей»?! Я напомню, Томас де Торквемада – это генеральный инквизитор Кастилии, который отправил на костер по разным оценкам до 8 тысяч человек!
А ведь Господь призывал любить, в том числе, и врагов…
Выше мы уже говорили о том, что не из любви действовали виноделы, когда оказывали влияние на перевод Ветхого Завета, но действовали исходя из своих собственных шкурных интересов. И перевод Библии, как утверждал историк, филолог, еврей Соломон Яковлевич Лурье был сделал не для греков, а для нужд самих евреев. И это правда. Ведь евреи-виноделы, впрочем, как и виноделы-греки, желали, чтобы говорящие на греческом языке оставались бы и далее благосклонными к винному пойлу. Это, во-первых.
А во-вторых, необходимо помнить, что у виноделов ничего святого нет. Тем более если винодел – еврей. Еврей, ставший виноделом, это жид. Жид – не национальность. Жид – это бывший еврей или, скажем помягче, еврей-выродок, чьим богом стали деньги. Именно о нем и писал великий немецкий экономист, еврейского происхождения К. Маркс в работе «К еврейскому вопросу»: «Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги» [56].
Деньги – основа.
Сегодня, когда наши межличностные и общественные отношения, фактически, лишены камуфляжа, мы и знаем, и хорошо понимаем, что само существование политической партии и место гражданина в депутатском корпусе совершенно невозможны без наличия, как минимум, трех составляющих:
– люди (кандидаты, команда, электорат),
– идеи (программа, предвыборные обещания и пр.),
– деньги.
2 тысячи лет тому назад все обстояло столь же прозаично. И был кандидат на статус Мессии – Иисус. И была команда – 12 апостолов. И были внимающие Ему толпы людей, самим фактом своего присутствия на проповедях, указывающие на свою приверженность Учению. И вдоволь было «предвыборных» обещании, ласкающих слух, льющих бальзам на сердце: плачущие утешатся, кроткие наследуют землю, алчущие и жаждущие правды насытятся, миротворцы будут наречены сынами Божиими, потому что они – соль земли, они – свет мира…
Но, вот какая закавыка: Сын Божий, в отличие от нынешних политиков, добивался не поста высокого и не престижного места в иерархии, Он хотел всего лишь быть услышанным и понятым. Согласно Евангелия от Иоанна, Его миссия заключалась в том, чтобы открыть людям имя Бога, прославить Отца Своего, (только для этого, я думаю, Он и совершил те 11 чудес, описание которых мы находим в синоптических Евангелиях) и посеять семена нового Учения. И вот: «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня» (Ин. 17:7,8).
Все! Миссия – выполнена! Но… Трудно сказать, когда, но в какой-то момент Иисус Сам перед Собой ставит сверхзадачу. Сам! В святоотеческой литературе и в Святом Писании мы читаем, что Иисус принес Себя в жертву за грехи рода человеческого. «Апостол» Павел утверждает, что Иисус выступил Ходатаем за род человеческий (Рим. 8:34). Следовательно, распятие на Кресте – это и жертва, и просьба, обращенная Иисусом к Отцу Своему о прощении рода человеческого, о прощении первородного греха. И поступить иначе, с Его точки зрения, видимо, было невозможно. Если б был иной, более эстетичный вариант, то зачем тогда эта загогулина – путь на Голгофу? Зачем Крест, если можно обойтись мирной семейной беседой, лично коммуницируя с Отцом?
И коль так, то выходит, что Иисус Отцом послан не для того чтобы быть распятым. Иисус проявил своеволие. Он Сам так решил, что нужно выступить Ходатаем. Этим и объясняется, я думаю, та «заминка» – несколько часов на Кресте, вынудившая Иисуса, страдающего от невыносимой боли, воскликнуть: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46).
Крестные муки – расплата за собственный произвол.
Вспомним Адама и Еву. Жили в благоустроенном раю, питались, как Бог велел, в саду Едемском. Но однажды, поддавшись искушению, заповеданное нарушили – вкусили от дерева познания добра и зла. И тогда Господь: «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей», «Адаму же сказал: …в поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт. 3:16, 19).
В общем, не хотите жить по заповеданному, по произволу хотите – пожалуйста, – не роботы вы, обладаете правом выбора, но, в таком случае, за собственные решения сами же и расплачивайтесь.
Иисус не только ослушался Отца Своего, но поступил еще и не по людской логике. Если особо не вникать в произошедшее с Ним, то ведь все смахивает на самое банальное самоубийство: Иисус, зная, что его уже ищут, чтобы погубить, не только не стремится избежать встречи с насильниками, но, покорно отдаваясь в руки своих палачей, даже не осуждает их – «они не знают, что делают» (Лк. 23:34).
Но самое, пожалуй, поразительное в этом эпизоде то, что Иисус, допрежь уже многажды призывавший к смирению, тут не публичного эффекта ради, но ради единства слова Им произносимого и дела осуществляемого, в человеческом теле пребывая, прошел Свой путь непротивления злу. Может показаться, что своим поведением Он просто отрицал само существование свободы воли, ибо поступал так, как хотят они – палачи и предатели, но в том-то и дело, что Он, тем самым, поступал так, как хотел Он Сам. Это парадокс Иисуса Христа. Это поступок не человека, но Бога! И это представляется непостижимым и совершенно неприемлемым для нас, для людей. Мы – иные. Мы мним, что мы – христиане. Но христиане ли мы? Мы, ежеминутно избегающие своего крестного пути? Мы, из страха перед вдруг возникшей неудовлетворенностью, берущие сигарету или стопку со спиртным; дабы возвыситься, осуждающие ближнего; ради устранения тревожности, повышающие голос и даже допускающие насилие? Мы, у которых для самообмана и самооправдания на подхвате удобная, лукавая житейская философия? Путем ли Господа нашего Иисуса Христа идем? Если не гвозди вбитые в ладони – неловкого слова в запальчивости сказанного простить друг другу не можем, то – христиане ли мы?
Всякий, отринувший сказанное – «любите врагов своих», взявший на вооружение ветхозаветный принцип – «око за око, зуб за зуб», становится иудеем, независимо от того, какой при этом величины у него на пузе, на груди ли крест.
Итак, Иисус Христос вознесся к Отцу и Духу. Его апостолы разбрелись по Римской империи. Прозелиты прозябали, сбиваясь в разрозненные общины единоверцев, пытаясь, кто как мог и, кто как понимал нести в народ свет истины, поддерживая, тем самым, и в себе самих светильник веры. И так было почти три столетия. Христианство, как форма духовной жизни едва теплилась, но даже в таком состоянии оно воспринималось власть имущими, как андеграунд – потенциально опасное для существующего режима, экстремистское движение, несущее в народ неслыханное: «люби ближнего твоего, как самого себя», «суббота для человека, а не человек для субботы», «если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах»…
На те, на первые христианские общины, очень смахивали, как мне представляется, наши клубы трезвости и клубы по интересам, которые во множестве существовали в СССР во второй половине 80-х XX-го столетия. Клубы, как и общины, напрочь лишенные материальной основы, характер носили камерный, в основном были замкнуты сами на себя, варились в соку собственном, и сколько-нибудь существенного идейного влияния на общество, конечно же, не имели. И не только потому, что не на что было купить самовар, конфеты, книги, оплатить аренду помещений и пр. Вопрос фундаментален. И ответ на него уже дали великие европейские экономисты XVIII века – К. Маркс и Ф. Энгельс: «Идея» неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от «интереса» [57]. А в интересе, – как объясняли они же, – проявляются экономические отношения данного общества. Если экономические отношения не проявляются в интересе к трезвости или к идеям Нового Завета, если идеи оторваны от материального интереса, не востребованы теми, кто располагает деньгами, они, идеи посрамляют сами себя, и превращаются в пустое, эфемерное благопожелательство.
Кроме того, и враг трезвости Трезвенническим движением был сформулирован всего лишь, как некий абстрактный, излишне доступный «алкоголь» – призрачный, наркотический монстр, существующий как бы почти сам по себе. Истинный же, материализованный враг всенародной трезвости – президент, члены правительства, представители законодательной власти, производители и торговцы алкоголем превратились в эдакую фигуру умолчания, а редкие голоса перстом своим тыкающих в персонифицированное всероссийское зло, безнадежно тонули в общей какофонии – в словесном болоте, усердно сотворяемом сволочами-романтиками, прекрасно знающими о страшной беде, но, тем не менее, призывающими закрыть глазки на пороки и язвы России, на антинародную политику, проводимую представителями власти, и говорить исключительно о хорошем, о прекрасном, о любви, о спорте, о преимуществах трезвой жизни…
Хуже того, идея освобождения народа от алкогольного рабства, которую с энтузиазмом несли спасатели, спасители и просто активисты Трезвеннического движения, как оказалось, очень не совпала ни с представлением самого народа о своем земном счастье, ни с его пониманием цели и смысла бытия. Уж слишком долгое время из поколения в поколение людям настойчиво навязывался извращенный образ мыслей: «Что за жизнь без вина? оно сотворено на веселие людям» (Сир. 31:32). Своекорыстная обслуга виноторговцев, и одураченные попугаи-легковеры, очарованные блестящими, словесными финтифлюшками бездумно транслировали чужую дурь…
«Что за жизнь без вина?» – это, уважаемый читатель, слова из Ветхого Завета – «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова», но это не Бога слова! Это восклицает некий древний недоумок. Кто он таков и когда он эту заумь написал – никому неизвестно. И, тем не менее, поди ж ты – оказался под общей библейской обложкой, размещен в Святом Писании между Книгами Моисея и Евангелиями апостолов?! Ну, как же обойтись без такого-то пропагандиста пития? И ладно бы только это, но беда-то ведь еще в том, что многие люди, читая Святое Писание, думают, что Сирахов – это не отсебятину несущий, но – цитирующий Самого Творца!?..
Кстати, «Премудрости…» – апокриф, т. е. произведение, не включенное в канон Церковью. И, соответственно, «Премудрости…», как любые другие апокрифы Ветхого и Нового Завета, являются запрещёнными для чтения в церкви. Но многие ли про это знают?
Идея всеобщего освобождения от греха, которую принес на Землю основатель независимого религиозного движения – Христос, как и трезвость в наше время, не очень-то совпадала с представлениями самих грешников о должном и желанном. Христианство, сулящее блаженство плачущим, кротким, изгнанным, алчущим и жаждущим правды – где-то там, в Царстве Небесном, тешило страдающие души, но, похоже, не очень-то привлекало как практическое руководство к действию. Потому-то и последователей были единицы. Потому-то со временем и сошло бы христианство на нет, как иные религии – атонизм, митраизм, манихейство, тенгрианство, ашуризм, сабеизм, религия ольмеков, минойцев, религия ханаанская… Но тогдашние правители узрели, наконец, в христианстве некую для себя выгоду. Быть может, вчитались в Послание «апостола» Павла к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро» (Рим. 13:1–4).
Каково? Целое религиозное движение само и – добровольно заявляет: власть – слуга Божий? Да, как же можно такое-то движение да не поддержать? И власть прекратила преследовать христиан, взяла их под свою защиту, обеспечила необходимое административно-политическое прикрытие.
Но кормить не обещало.
А кормить было кого. Взять хотя бы того же «апостола» Павла, который, как о том сообщает книга «Деяния святых апостолов», когда пришел в 51 году в греческий полис Коринф, то проповедовал там только по субботам, так как в остальное время был вынужден зарабатывать себе на еду тем, что совместно с иудеем Акилой и его женой Прискиллой делал палатки (Деян. 18:1–3).
Ничего существенного в его жизни не изменилось и через 10 лет. В 61 году «апостол» Павел, сидя в римской тюрьме пишет членам христианской общины в Филиппах: «…я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних; вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду» (Флп. 4:11–16).



