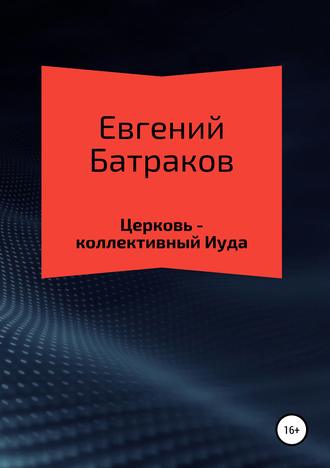 полная версия
полная версияЦерковь – коллективный Иуда
Впрочем, вполне возможно, что я сегодня не в меру оптимистичен…
Но позвольте, вполне может сказать, иной мой читатель, это же все мифология – Вакх, Дионис, Бахус, – фэнтези?!
Я-то согласен, что мифология и фэнтези, но и вы согласитесь с тем, что и самого современного человека можно запросто укокошить доисторическим каменным топором. Так зачем же замахиваться? Зачем насаждать всю эту пропитейную психологию, философию да эстетику, и насаживать на древность современность? Тем более что, во-первых, мифы – это, как оказывается, не такая уж и выдумка, они, что уже доказано, по крайней мере, многие из них имеют совершенно реальное присутствие в истории человечества; во-вторых, люди так устроены: они способны поверить и в не существующее и не могущее существовать. Например, те же ваххабиты-смертники, уверовавшие в то, что если, используя пояс смертника, разорвать себя в клочья, то будет тебе гарантированно даровано райское местечко. Я могу принять концепцию самопожертвования в битве во имя Аллаха. Могу. И, допустим, погибший – мученик. Но… распахнет ли для таких «мучеников» ангел Рыдван двери райские, если при этом одновременно убиты, – как совершенно несущественный довесок, что ли к акции, – ни в чем не повинные дети Аллаха? В школе Беслана, в городском автобусе, в метро?..
Так вот, оказывается, даже воображаемая, из пальца высосанная фикция, способна воплощаться в реальные и очень страшные результаты. Например, только в России, как утверждается в материале, размещенном 19 января 2016 г. на сайте Роспотребнадзора, сторонников вхождения в состояние веселухи через самоотравление с помощью спиртосодержащих жидкостей, т. е. бахусопоклонников ежегодно погибает около 500 тысяч [25]. Ежегодно! 500 тысяч! Тех, кому без интоксикации ну, прям, никакой, совершенно никой радости. Принимать же себя, себе подобных и свою жизнь таковыми, каковыми они являются – мы ж не лохи, поди?! Непременно нужно «залить шары», чтоб зырить из себя на себя и на все остальное исключительно и только через винные градусы. Вот это – жизнь! «Поднимем стаканы, содвинем их разом!»
Ну, это все в России…
А что ж было, например, в том же Древнем Риме?
Древнеримский историк Тит Ливий: «Из Этрурии эта зараза проникла в Рим» [26].
Это Тит Ливий о культе Диониса, о вакханаливщине – зараза! Более того, он квалифицирует данное явление строго и точно, как «заговор внутри государства»! И когда стало известно, пишет историк, что зараза уже проникла в Рим, консулам Спурию Постумию Альбине и Квинту Марцию Филиппу было поручено этот тайный заговор тщательно расследовать. И они расследовали, и они установили, что сначала этой заразой были заражены только женщины, и обряды, посвященные Вакху, проводились только днем, и только три раза в год. Но, как известно, аппетит приходит во время еды – постепенно порядок изменился: и вот уже к обрядам допускаются и мужчины, обряды проводятся по ночам, а посвящение новичков совершается по несколько раз в месяц…
Слово свидетелю: «Как только туда вводят посвящаемого, его, словно жертвенное животное, передают жрецам, а те отводят его в помещение, где отовсюду звучат вопли и завывания, пенье и музыка, кимвалы и тимпаны, чтобы заглушить крики насилуемого. <…> Мужчины там больше занимались друг другом, чем женщинами, а тех, кто уклоняется от мерзких объятий или идет на них неохотно, таких убивают как жертвенных животных. Терпимость к любым преступлениям и кощунствам у них считается верхом благочестия. <…> Обычно жертвой становятся те, кто отказывался или вступить в заговор, или участвовать в преступлениях, или удовлетворять чужую похоть. <…> Последние два года действует правило, по которому к таинствам приобщают лиц не старше двадцати лет, ибо этот возраст легко сбить с пути и вовлечь в разврат» [27].
Конечно, Древний Рим, как нам сегодня хорошо известно, не заповедник праведности, нравственности и законности. Даже не смотря на уже существующее высочайшее достижение цивилизации – римское право, гигантский шаг от дикости и полного произвола. И, тем не менее, доклад о существующих вакханалиях чрезвычайно взволновал сенаторов. Возможно, как предполагал Ливий, «они опасались и за судьбу государства, которое могло пострадать от заговора, и за судьбу своих близких и родственников, которые могли быть в заговор вовлечены». И сенат – высший государственный орган власти – в 186 г. до н. э. постановил: «Учинить розыск и поимку в Риме, а также по городкам и торжищам всех жрецов и жриц Вакха и передавать их консулам; огласить в Городе и разослать по Италии эдикт, запрещающий участникам вакханалий устраивать сходки и собрания для отправления своих обрядов, но в первую очередь привлечь к ответственности тех, кто использовал эти собрания и обряды в безнравственных и развратных целях» [28].
Необходимо отметить, что религиозная толерантность Рима в те времена была достаточно высокой. Это следует из того, что римляне, завоевывая все новые и новые территории, на завоеванных территориях оказывали местным богам порой те же почести, что и богам своей государственной религии. Более того, в формирующемся римском пантеоне без особых сложностей получали прописку самые разные «иностранцы»: Диана, Геркулес, Митра, Кибела и другие божества, некоторые из которых происходили все из той же греческой культуры. Кроме того, общины мигрантов, при условии, что они не хулят богов Рима, совершенно свободно отправляли свои религиозные обряды в пределах города и соблюдали свои традиции.
Вы представляете, как накалились сенаторы, если при такой традиционной веротерпимости, они приняли столь жесткое решение по Вакху (Дионису) и сборищам в его честь? И перед тем, как это решение было распространено по всей Италии, взойдя на ораторскую трибуну и торжественно помолившись, перед многолюдной толпой выступил консул Спурий Постумий. Консул сказал: «Квириты! (Квириты – официальный титул, с которым в Древнем Риме обращались к полноправным гражданам. – Прим. Е.Б.). Еще ни разу, ни на одном народном собрании эта торжественная молитва богам не была до такой степени уместной и необходимой. Она должна вам напомнить о том, что именно этих богов ваши предки завещали чтить обрядами, жертвами и молитвами, а не тех, которые словно фурии своими бичами гонят к всяческим преступлениям и к разнузданному распутству умы, ослепленные превратными и чужеземными суевериями.
С давних времен по всей Италии, а теперь уже и у нас в Городе, справляют в разных местах вакханалии: не сомневаюсь, что об этом вы знаете не по слухам, но по грохоту и завываниям, которые по ночам оглашают весь Город; но я совершенно уверен, что никто из вас и не знает, что такое вакханалии. Одни думают – это обряд богопочитания, другие в них видят дозволенные игры и увеселения, но как бы то ни было, по общему мнению, участвуют в них немногие. Что касается числа их участников, то оно измеряется уже многими тысячами, но чтобы вас не слишком пугать, поясню, кто эти люди. Большую часть их составляют женщины, с которых, собственно, и началось это зло. Затем – уподобившиеся им мужчины, растленные и растлители, исступленные, обезумевшие от ночных оргий и попоек, грохота барабанов и собственных воплей. Сейчас преступное сообщество бессильно, но оно набирает силу с устрашающей быстротой, ибо численность его растет со дня на день. <…> Если бы вы знали, в каком возрасте юношей приобщают к этим нечестивым таинствам, то вы бы не только пожалели их, но вам было б и стыдно за них. Неужели, квириты, вы полагаете, что, дав такую клятву, юноши могут служить в вашем войске? Им ли, прошедшим школу разврата, вы захотите доверить оружие? Неужели, покрытые позором и бесчестием, они будут отстаивать на поле брани честь ваших жен и детей?
<…> Я счел необходимым об этом напомнить, чтобы суеверие не смущало ваши умы, когда мы приступим к уничтожению вакханалий и к разгону нечестивых сборищ. А именно это мы и собираемся сделать с изволения и при помощи бессмертных богов, которые давно уже гневались на то, что их именем прикрывали разврат и преступления, и теперь разоблачили эту гнусность – не для того, чтобы оставить ее безнаказанной, но чтобы со всей строгостью покарать. Сенат поручил мне и моему коллеге чрезвычайное расследование этого дела, и мы полны решимости выполнить свой долг. Младшим магистратам мы поручили организовать ночные обходы города. Но необходимо, чтобы и вы, квириты, ревностно выполняли каждый на своем месте, приказы, которые вам будут даны, и пресекали любые попытки мятежников устроить волнения и беспорядки» [29].
Вот, что такое Дионис, он же Вакх, и он же – Либер! Мерзкий, злопамятный божок, страдающий от комплекса неполноценности, во чью славу изобильно струились стишки поэтов, а живописцами создавались полотна. Кого и что возносим, мастера культуры?! Ради чего и – в чьих интересах?!..
И консулами приказы были отданы. И во исполнение решения сената, жрецов Вакха разыскивали и задерживали. И не только жрецов. Всего же сторонников растления и винопития – вакхантов – оказалось более 7 тысяч. Часть из них – тех, кто очевидно был причастен к каким-либо преступлениям, казнили незамедлительно, тех же, кто только успел вступить в сообщество дегенератствующих мракобесов, заключили под стражу. Святилища Вакха по всей Италии были уничтожены. Сами же вакханалии постановлением сената – строжайше запрещены.
Однако, как отмечает Словарь Брокгауза и Ефрона: «Совершенно искоренить эти безнравственные мистерии не удалось, а имя их надолго осталось для обозначения шумных попоек, и в этом смысле употребляется и у нас» [30].
Культ Вакха – экономически выгодный проект виноторговцев, культ, в котором, как необходимая его составная часть, присутствовала стратегия развращения, получил колоссальный размах. Виноторговцы прекрасно понимали, что вино – катализатор разврата, а разврат – катализатор винопития. Свою лепту в объяснение этой закономерности внес и Л.Н. Толстой. Великий мыслитель земли русской писал: «Пьют и курят не так, не от скуки, не для веселья, не потому что приятно, а для того, чтобы заглушить в себе совесть» [31].
Но совесть глушат – люди пьющие, у виноделов же и виноторговцев ее нет. У них вместо совести – своекорыстный расчет, под которым ничего ни личного, ни общенародного. И поглощены они всецело только тем, чтобы с помощью дионисий, вакханалий, застолий – рестимулировать в человеке все противоестественное, с помощью вина – парализовать этику, с помощью словес, вложенных в уста божества – придать винопитию высший, сакральный смысл…
И все это у них – не везде, но во множестве мест сладилось превосходно – «Стучат и расходятся чарки, Питейное дело растет».
И вот тут, вы только представьте, вдруг, – нате вам! – Священное Писание, переведенное на греческий язык, очутилось именно там, где живут вино покупающие греки!? И не просто Писание, но повелевающее: «не смотри на вино – оно укусит, и ужалит, как аспид»?! Хуже того, из его текста совершенно ясно следует, что пить броженое вино – однозначно дело не Богоугодное.
Можно ль было с подобным смириться?
Вот почему я утверждаю, в том числе, на основании выше изложенного, что «возмутительные» ветхозаветные высказывания были нейтрализованы не без участия, а даже при непосредственном участии и виноделов, и виноторговцев.
Что же было сделано? О чем вообще речь?
Понятно, что просто взять, да и выдрать из текста противовинные строки – дело совершенно невозможное. Первые же читатели Библии моментально уличат таких тенденциозных грамотеев в преднамеренной профанации и закидают грубыми булыжниками злобных насмешек.
Как быть?
Самое наипервейшее – вовремя подсуетиться и дать свое собственное толкование, тщательно замаскированное под высокое благоразумие: речь, мол, идет тут не о вине вообще, а только и лишь о злоупотреблении оным, о его потреблении в количествах неумеренных; зло же в умеренных есть благо. Эта словесная лукавая муть, отравляющая наши умы, и сбивающая нас с пути праведного, присутствует буквально всюду и рядом. В частности, она нам хорошо известна под названием «теория культурного пития». «Теория», или правильнее сказать концепция находится уже многие столетия на вооружении Русской Православной Церкви. Дабы не прослыть голословными, приведем несколько цитат из трудов только одного святого Иоанна Златоуста: «Вино дано для того, чтобы восстановлять силы слабого тела. <…> Не вино зло, а пьянство. <…> «Можно пить вино и быть трезвым. <…> Не от вина происходит пьянство, – вино есть создание Божие, а создание Божие не причиняет ничего худого, – но порочная воля производит пьянство. <…> Не вино худо, но неумеренность порочна; вино есть дар Божий, а неумеренность – изобретение диавола» [32].
И вот такая галиматья на протяжении 12 томов! А ведь Златоуст – не отмахнешься – один из авторитетнейших отцов Церкви! Скольких подобные Златоусты, отцы Церкви, обрекли на сиротство при спившихся родителях, наслушавшихся призывов к непорочному умеренному питию?! Сколько порушено семей, сколько загублено судеб, сколько сгибло людей?! Они не ведали, что «малая закваска заквашивает все тесто»? Тишком. Ведь нет же решительно никакой возможности обнаружить эту пресловутую незримую черту, до которой ты еще со всеми и как все, а после которой ты уже один и всеми осуждаемый. Поглощение наркотического зелья – явление не дискретное, оно – континуум.
И коль я так понимаю суть тех событий, как мне уклониться от надобности назвать проповедника лжи Иоанна Златоуста лютым волком в овечьей шкуре?..
Но еще большее злодеяние совершено теми, кто в интересах виноделов и виноторговцев пошел на сознательное искажение перевода Ветхого Завета.
О том, как Ветхий Завет был переведен с арамейского языка на греческий, существует единственное свидетельство – «Послание Аристея к Филократу». Правда об этом свидетельстве Еврейская энциклопедия высказывается довольно жестко и совершенно однозначно: «Аристей – фиктивный автор сохраненного нам «Послания» к (тоже фиктивному) Филократу, предполагаемому брату автора» [33].
Не очень благосклонно к «Посланию…» относится и Православная энциклопедия: «Начиная с XVII в. в науке постепенно установилось мнение, согласно которому Аристея послание является иудейским псевдоэпиграфом, созданным в апологетических целях» [34].
Однако, как бы ни ставилась под сомнение достоверность существования самой личности информатора, легенда о том, где, кем и когда был сделан перевод, тем не менее, в ученых кругах, пусть вынужденно, но принимается. Поскольку альтернативы, как в таких случаях принято говорить, нет.
Легенда же такова.
По приглашению царя Египта Птолемея II Филадельфа (правил в 285–245 годах до н. э.) из Иерусалима в Александрию прибыли 72 толковника-иудея – по 6 от каждого из колен Израилевых, которые в течение 72-х дней на острове Фарос перевели книги иудейского закона с древнееврейского на греческий. Затем перевод был представлен царю Египта, а также иудейской общине Александрии. И всеми он был признан весьма успешным. Данный перевод – «перевод семидесяти старцев» – ныне известен как Септуагинта.
Какова же была надобности в данном переводе? Очевидно, можно говорить о проявлении разных интересов разных людей. Например, царь Птолемей, как утверждает в своем «Послании…» Аристей, хотел пополнить фонд Александрийской библиотеки еще одним весьма ценным приобретением.
Профессор Соломон Яковлевич Лурье (1891–1964) – «выдающийся историк античного мира», – как утверждает аннотация к его книге «Антисемитизм в древнем мире», считает, что перевод Библии был осуществлен не для греков, а для нужд самих евреев – для нужд синагогального богослужение в Египте [35].
Имеет, я думаю, право на существование и моя точка зрения – перевод Библии был сделан еще и в целях духовной оккупации грекоязычного населения, путем проиудейской информационной экспансии и вербовки адептов религии. Тем самым решались задачи:
1. Снижение уровня антисемитизма, создание терпимости по отношению к евреям (ликвидация конфессиональной разницы затушёвывает межличностные и социальные противоречия).
2. Насаждение нового религиозного мировоззрения, и, соответственно, новых обрядов, идей и ценностей, способствующих отторжению от веры своих предков, от традиций, от своего исторического прошлого; превращение человека в Иоанниса, не помнящего родства, в существо, утратившее опору, и легко управляемое.
3. Оказание соответствующего влияния на истеблишмент и на население государств – потенциальных иудейских сателлитов, подчиняя, тем самым, проводимую ими внутреннюю и внешнюю политику удовлетворению собственных интересов.
4. Усиление духовно-религиозного влияния на эллинизированных евреев, утрачивающих связь с Израилем.
Следует отметить, что явление Септуагинты, как утверждал Аристей, от александрийских евреев удостоилось горячих похвал, а переводчикам были оказаны всевозможные почести и вручены награды за проделанный труд. Но совершенно иной через некоторое время была реакция ортодоксальных раввинов. Они уже в то время хорошо понимали, как минимум, два важных обстоятельства:
1. Язык и содержание откровения, ниспосланного Богом – это две, совершенно разные семиотические системы [36].
2. Если откровение дано конкретному народу и записано оно на языке этого народа, и буквами, которыми пользуется именно этот народ, то всякая попытка перевести откровение на иные языки – это не перевод учения, но его искажение, деформирование, карикатуризация.
Хуже того, древнееврейский язык относится к афразийской макросемье, а древнегреческий язык – к индоевропейской.
Кроме того, является самоочевидным, что Священное Писание, читаемое иудеем на древнееврейском языке, и греком – на языке своем, вызывает совершенно разные ассоциации, будят нетождественные друг другу оттенки эмоций и чувств.
Вспомним Ф.И. Тютчева [37]:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…
Поэтому, мы не можем отказать в нашем сочувствии древним талмудистам, имеющим собственное видение и свои вполне обоснованные претензии. Однако ж, не станем забывать и о нашем историческом аспекте – о том, что к переводу Септуагинты не остались равнодушны, как виноторговцы Иудеи, так и виноторговцы Эллады. И они, преследуя личные интересы, оказали-таки на перевод соответствующее влияние, т. е. внесли определенное искажение.
О том же, что перевод в целом был не безгрешен, подтверждает и хорошо известный факт: греческий текст Септуагинты полностью отвергнут талмудическим иудаизмом. Отвергнут не только по выше уже изложенным причинам, но еще и потому что перевод имел явные, грубые ошибки. Об одной из них рассказал в своей статье «Об искажении переводов Библии и о проповеди христианства евреям» раввин Берл Хаскелевич. Б. Хаскелевич обращает наше внимание на отрывок из синодальной Библии: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил…» (Ис. 7:14). «Однако почему дева? – вопрошает раввин. – В древнееврейском тексте здесь стоит слово алма, что значит «молодая женщина», «юница» – женский род слова элем (юноша). Для обозначения «девственницы» существует специальное слово: бетула» [38].
Казалось бы, велика ли разница – дева, девственница и – молодая женщина? Разница, быть может, и не велика, но это – разница. А разница, даже если она всего лишь в виде нюанса – являет собою противоречие, двоемыслие, конфликт. Хуже того, эта ошибка, допущенная переводчиками, переползла и в Новый Завет, и стала основанием для утверждения о непорочном зачатии «девы» Марии, которая была обручена с Иосифом?!
Впрочем, мы с вами сейчас рассуждаем только о точности перевода. И коль мы убеждаемся, что перевод с арамейского на греческий, а затем и на русский подпорчен произволом, то как же нам не проникнуться вполне обоснованным подозрением, и не подготовиться к тому, что и в тех местах, где речь идет о виноградном соке, нам «молодую женщину» не всучат под видом «девственницы»?
А ведь нам всучили! И не только из «злого умысла». И не только потому, что наисложнейшее религиозно-философское произведение – Пятикнижие Моисея, переводили наспех – всего лишь за 72 дня. Не будем забывать: с арамейского языка на греческий переводили исключительно евреи – представители 12 колен, недостаточно хорошо знающий чужой и чуждый им язык, недостаточно хорошо владеющие лексической полисемией греческого языка!
Долгие годы я никак не мог взять в толк, почему в одном месте Библии говорится о том, что вино – жидкость опасная, в других же местах: вино – веселит сердце человека. И, как оказалось, не только я обратил внимание на это противоречие, но и целый ряд серьезных исследователей: митрополит Владимир (Богоявленский) [39], богослов Самуэль Баккиоки [40], диакон Иоанн (И.П. Клименко) [41]…
Так вот, эти славные ученые мужи совершенно ясно все мне и объяснили (передаю, как сам понял). При создании Септуагинты был совершен подлог, или, скажем помягче, были допущены неправомерные обобщения, и, соответственно, произведена подмена смыслов и значений: толковники родовое понятие – «вино», умудрились превратить в понятие видовое. Затем, понятие «вино», но уже читатели Священного Писания, в соответствии с той традицией, в которой они существовали, вновь превратили его в понятие родовое, сохранив при этом только один единственный смысл – «напиток, содержащий алкоголь». И теперь выходило так, что в тех фрагментах текста, где Господь и пророки одобрительно говорили о питии вина, они одобряли именно «напиток, содержащий алкоголь».
Между тем, в прошлом под словом «вино» могли подразумеваться, как жидкости, вызывающие опьянение, так и не вызывающие. Это следует, в частности, из утверждения Аристотеля: «Сладкое вино летуче, потому что оно жирное и ведет себя как оливковое масло: от холода оно не застывает и может гореть. Вином оно является только по имени, а на деле нет. И вкус у него не такой, как у вина, и не опьяняет [оно] поэтому так, как [обычное] вино. Оно немного летуче, и поэтому его можно поджечь» [42].
Более того, «в те времена далекие, теперь уже былинные», когда белое было белым, а черное – черным, каждая жидкость, получаемая из виноградных ягод, имела еще и свое собственное название: хемер, хамар, йайин, мезег, сове, асийс, шекар, шемер, тийрош…
Вот, только один маленький пример – сравнение двух фрагментов, взятых из Синодальной Библии.
1. Первая книга Моисея Бытие: «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем» [43].
2. Третья книга Моисея Левит: «И сказал Господь Аарону, говоря: вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою» [44].
Но… в древнееврейском тексте используется не одно слово «вино», а разные слова, т. е. слова с разным смысловым значением!? И тут в свои союзники я вполне могу пригласить Библию, вышедшую под редакцией М.П. Кулакова и М.М. Кулакова, перевод которой выполнен не с Септуагинты, а со стандартного научного издания древнееврейского оригинала Biblia Hebraica Stuttgartensia – выше приведенный стих из Книги Левит представлен уже так: «Тогда, говоря с Аароном, Господь сказал ему: «Ни вина, ни напитков хмельных не пейте ни ты, ни сыновья твои…» [45]
Обратим особое внимание: «ни вина, ни напитков хмельных». Следовательно, в данном контексте вино не входит в категорию хмельных напитков! То вино, которое пил патриарх Ной, и то вино, котором Господь говорит Аарону – это совершенно разные жидкости! Но почему же они в Синодальном тексте в отличие от текста древнееврейского, переданы одним и тем же словом? Разве это не запутывает читателя?
Итак, мы видим, что благосклонное отношение церковников в вину, исторически было предопределено тем, что произошло еще во времена создания Септуагинты, т. е. более 2-х тысяч лет тому назад. Виноторговцы не могли допустить, и они не допустили, чтоб винопитие было выставлено, как деяние неугодное Богу, т. е. как грех, и они унифицировали лексику – устранили синонимы, и только вином стало именоваться все, что образуется из плодов виноградной лозы. Более того, они еще и «ободрали» значение самого слова «вино», и оно стало означать только то, что содержит алкоголь.
Второй исторический момент, который определил и детерминировал благосклонность церковников к винопитию – предвзятое истолкование того, что происходило на Тайной Вечере в первый день празднования пасхи. Подобное истолкование случилось еще в те времена, когда только начали формироваться христианские религиозные обряды, но уже были написаны Евангелия Нового Завета.



