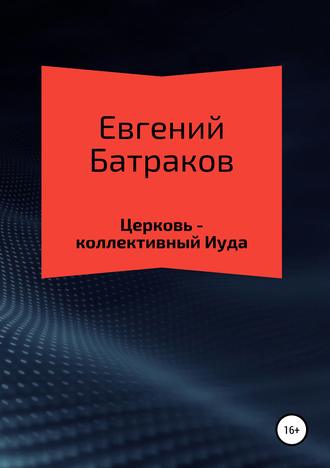 полная версия
полная версияЦерковь – коллективный Иуда
Казалось бы, сущий пустяк: всего лишь назначили/выбрали распределяющих и раздающих, но от них стал зависеть каждый, и в то же время все. Зависимость – на одном полюсе, на другом – имеющие власть над зависимыми. И все это пока нюанс, но это и еще одно семя, из которого выросло господство над паствой.
Можно сейчас по-разному истолковать в те времена случившееся, но ясно одно: апостолы пренебрегли предупреждением Иисуса Христа, не сочли нужным экстраполировать Его слова: «…не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья» (Мф. 23:8), т. е. не создавайте разницу, не создавайте неравенства. Это – принцип. Но они все же создали разницу. Между собою и остальными. Казалось бы, совершенно незаметную: мы – не только апостолы, но мы – ваши пастыри, мы – раздающие хлеб, вы – хлеб получающие.
Далее – больше: тенденция только усугублялась.
В начале I века в Иерусалиме бытовало представление: апостолы – это ученики Христовы, которые сопровождали Господа во время Его земной жизни, и Он послал их для благовестия о Царствии Божьем. Павел же решил упразднить историческую компоненту, связанную с условиями определенного пространства и времени, и существенно расширить само содержание понятия «апостол», да так, чтобы и самому очутиться в границах сформулированного определения. И вот, теперь апостольское призвание и сам статус по Павлу стали делом просто чрезвычайного откровения: «Апостолом мог быть человек, не сопровождавший Господа во время Его земной жизни, и получивший от Него полномочие в чрезвычайном явлении, уже по вознесении Его» [376].
Ну, мы же помним, как с Павлом однажды нечто подобное уже случалось: шел-шел и вдруг – голос с неба… И махровый иудей в одночасье становится самым горячим поборником и проповедником той ереси, которую всю свою жизнь выжигал каленым железом. Впрочем, в данном моменте наших рассуждений нам важны не столько весьма подозрительные завиральные эпизоды из жизнедеятельности соавтора Нового Завета – первое преображение иудея Савла в Павла, затем второе преображение выкреста Павла в апостола, проповедующего евангелие, которое ему, якобы, было передано Самим Господом, – сколько та, организационно-административная компонента теологического вектора, та вереница сакральных уровней, которую Павел, его сподвижник – апостол от семидесяти, епископ Римский Климент и другие архитекторы церкви выстроили на располагаемом информационно-мифологическом основании: от Бога – Иисус Христос, от Христа – апостолы, от апостолов – епископы и диаконы [377]. Соответственно, выходило так, что власть церковная не людьми установлена, но дарована Самим Господом, и передается от звена к звену представителям иерархии через соответствующее посвящение. Со временем, высшие клирики стали получать благодать священства через хиротонию в алтаре, низшие клирики поставлялись на служение через хиротесию вне алтаря, в храме.
Таким образом, нам представляется несомненным, «что в церкви с самого начала существовали полномочия, присущие не всем членам церкви, а только некоторым избранникам, получившим на то особые благодатные дары (Деян. 8:14–17), что эти полномочия получались не от людей, а от Бога, и что, следовательно, не было и не могло быть равенства между носителями особых служений и простыми верующими» [378].
Более того, тот, кто уверовал во Христа, чтобы стать христианином, стать членом Церкви, непременно должен был принять Крещение – отвергнуть свои грехи, духовно возродиться от воды и Духа, – и это, конечно же, не без помощи священника, и только потом, согласно вероучению, через Евхаристию, употребив Святые Дары, соединиться с Богом. Однако… Святые Дары – это ж не просто хлеб и вино, но хлеб и вино, освященные священником во время евхаристической молитвы, тайно произносимой перед престолом в алтаре. Только перед престолом и в алтаре!
Таково было требование. И требований становилось все больше и больше. И вот уже святой Климент епископ Римский в своем Первом послании к коринфянам, заявляет: «Будучи убеждены в этом и проникая в глубины божественного ведения, мы должны в порядке совершать все, что Господь повелел совершать в определенные времена. Он повелел, чтобы жертвы и священные действия совершались не случайно и не без порядка, но в определенные времена и часы. Также где и чрез кого должно быть это совершаемо, Сам Он определил высочайшем Своим изволением, чтобы все совершалось свято и благоугодно, и было приятно воле Его» [379].
Конечно, утверждаемое епископом Климентом – полная отсебятина. Где и кому именно подобное говорил Господь? Ответа у Климента нет. Ссылки он давал с неохотой, а если и давал, то с такой неточностью, что впору только руки в стороны развесть. Так, например, епископ Климент утверждал: «И это не новое установление; ибо много веков прежде писано было о епископах и диаконах. Так говорит Писание: «поставлю епископов их в правде и диаконов в вере» [380]. И ссылается при этом на Книгу пророка Исаии, глава 60, стих 17. Но – сравните! – в данном стихе речь идет вовсе не о диаконах и епископах!? Читаем: «…и поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими – правду» (Ис. 60:17).
Еще пример. В главе XLVI своего труда Первое послание к коринфянам епископ Климент «цитирует» фрагмент из Библии, которой вообще нет в Святом Писании: «Таким примерам и мы должны подражать, братья. Ибо написано: «прилепитесь к святым; ибо прилепляющиеся к ним освятятся» [381].
В общем, очевидно одно: клирики довольно скоро не только узурпировали церковную власть, но и приватизировали само учение Иисуса Христа. Кроме того, довольно быстро усмотрели и свою немалую выгоду в священнодействии, а потому и наладили производство всевозможных молитв, ритуалов, обрядов, постов и дремучих всенощных бдений, ориентироваться в коих и знать толк в коих могли только посвященные, т. е. они сами. А имея власть, особенно, когда возник взаимовыгодный альянс между властью церковной и государственной, объявили свои изощренные выдумки подлежащими неукоснительному исполнению, а не исполнение оных – грехом.
Мало, что в этом плане изменилось в лучшую сторону и по день сегодняшний. Например, в наше время не причащающий более 3-х седмиц подряд без веских причин, переходит в разряд отпавших от Бога, Его Церкви и спасения [382]. Разумеется, ныне контроля за верующими, по крайней мере, за паствой, почти нет, но меры наказания сами по себе существуют и тревожат в неисполнение их попавшего.
Итак, церковная иерархия, созданная личностной нуждой отдельных личностей доминировать над массой себе подобных, оказалась просто вынужденной способствовать удовлетворению как простейших потребностей своей паствы, так и церкви, как существа общественно-религиозного. Иерархия, вставшая на путь концентрации верующих под своей дланью, в то же самое время оказалась и затягиваемой, словно трясиной, миром, где господствуют физиологические потребности, товарно-денежные отношения, общественно-экономические законы, совершенно индифферентные по отношению к Божьим заповедям. Церковь, созданная как организация общинного типа, созданная по социально-экономическим лекалам общества, в котором она существовала, оказалась и вынужденной функционировать как любая другая, в том числе, и самая нерелигиозная людская ассоциация, находящаяся в границах этого общества: заботиться о пропитании своих чад, о наличии финансовых возможностей, о собственной безопасности, о том, чтобы была крыша над головой, по крайней мере, для проведения своих мероприятий…
Конечно, прав был священнослужитель М.И. Горчаков (1838–1910), когда утверждал, что «церковь есть общество, существование которого вызывается потребностью нравственной природы» [383], но само существование церкви, как социального института, и людей в ее лоно входящих, как оказалось, обеспечивается удовлетворением еще и многих иных потребностей, причем, природы далеко не нравственной.
Бремя проблем, коими были отягощены церковники, существенно полегчало, через некоторое время после того, как они стали навязывать обществу представление будто бы право иерархов повелевать, имеет не земное происхождение, и, дабы не быть уличенными в непоследовательности, признали, что и власть – право на насилие – господ, начальства, рабовладельцев – тоже ниспослана свыше: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога» (Рим. 13:1).
Вне всякого сомнения, подобные реверансы пришлись по вкусу правителям абсолютно всех уровней. И мало-помалу между властью духовной и властью государственной возникло и должное взаимопонимание, и наладилось сотрудничество. Церковь оправдывало любое политическое насилие, осуществляемое государством, любой разбой и любые военные походы, и государство щедро расплачивалось с церковниками недвижимостью, предоставлением всевозможных прав и льгот, освобождением от налогов и пошлин… Начиная с IV века в христианских государствах на содержание клира стала выделяться десятина, и гарантировалось право на доход с церковной должности.
И все вроде бы ничего, но ведь церковь, пошедшая в хорошо оплачиваемые служанки, вместе с тем, перерождается и вырождается?! И как тут в этой связи не согласиться с тем, что сказал 18 апреля 2012 года протоиерей о. Павел Адельгейм, клирик Псковской епархии, отвечая на соответствующий вопрос Алексея Семёнова: «Политика несовместима с духовной жизнью церкви. Политика разжигает в человеке страсть властолюбия. Весь пост мы молились об избавлении от «духа любоначалия». Симфония власти и церкви противоестественна и губительна для обоих. Опираясь на власть, иерархи получают привилегии, имущество, деньги и прочие блага. Платят – духовной свободой. Церковь попадает в зависимость и оправдывает поступки имперской власти, теряя в глазах гражданского общества нравственный авторитет. Светильник гаснет, маяк не светит» [384].
Конечно, союз государственного кнута и креста церковного существовал не в полной безмятежности – все столетия между «союзниками» велась самая жесточайшая борьба. С переменным успехом. За доминирование. В сущности же, ничто не менялось. Внешне – случались перемены, и порой радикальные: гибли главы государств и главы церкви, бывали времена, когда вся церковная иерархия буквально дышала на ладан, шло массовое закрытие храмов, монастырей, семинарий…
Что же сегодня в материальном, в финансово-экономическом плане представляет собою Русская православная церковь? Насколько далеко она ушла прочь от известного догмата Иисуса Христа о нестяжании? Иисус Христа, который стремился не к обществу бедных, но к обществу таких людей, которые не нуждаются в богатствах…
Российский социолог, историк, публицист Н.А. Митрохин в своей книге «Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы» констатировал: «В настоящее время с экономической точки зрения РПЦ представляет собой гигантскую корпорацию, объединяющую под единым названием десятки тысяч самостоятельных или полусамостоятельных агентов» [385].
И это действительно так, поскольку каждый монастырь, приход, епархия, находящиеся в каноническом ведении РПЦ, зарегистрированы Росрегистрацией как самостоятельное юридическое лицо. При этом, Русская православная церковь – это 303 епархии, 36 878 храмов или иных помещений, в которых совершается Божественная литургия, и 944 монастыря. В дальнем зарубежье действуют более 900 приходов и монастырей РПЦ [386].
Почти 40 тысяч храмов и «иных помещений», но церковникам и этого невдоволь: они, вопреки воле местных жителей, норовят возводить все новые и новые культовые сооружения, в том числе на месте уже существующих скверов и иных окультуренных территорий, норовят возвратить в свое пользование и ту церковную собственность, что была объявлена декретом СНК от 20 января 1918 года народным достоянием. Церковники даже добились от светской власти принятия целого ряда документов, позволяющих возвращать некоторое из того, что в прошлом было конфисковано: иконы, книги, святыни, земельные участки, помещения… Был принят даже Федеральный закон № 327-ФЗ от 30 ноября 2010 года «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения…»
А ведь Иисус Христос, как известно из Евангелий, храмы не строил и строить их не призывал, Сам частной собственности не имел, а оной обладающему говорил: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф. 19:21). Более того ведь даже «апостол» Павел, выступая с проповедью в ареопаге перед афинянами, заявлял: «Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих» (Деян. 17:24–25).
В храмах – Бога нет, – сказал Павел. И – Бог не требует рук человеческих! т. е. рук, создающих храмы! Не храмы Богу нужны: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» (Мф. 19:18). Какие? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, – вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет» (Мк. 12:30–31).
Возлюби Бога и ближнего, как самого себя. И – все! Он не требовал соблюдения на пустоте замешанных постов, сожжения свечей, бессмысленных поклонов пред иконами, как и писания самих икон, совершения крестных ходов и прочего, и прочего. Так считал Господь, говорящий с нами текстами Ветхого и Нового Завета, но совсем иные воззрения имеют те, кто навязались в Его посредники, усложнившие до предела простое, изложенное простым языком, поднапустившие смыслового тумана, доведшие ясное и мудрое до непостижимого, которое решительно невозможно понять без специального толмача-богослова, отца святоотеческого.
Стяжательство церковников проявляется, конечно же, не только в навязчивом стремлении к обретению недвижимости в виде архитектурных сооружений, но и виде алчного накопления денег, что проявляется, в частности, в том, что Московская патриархия размещает временно свободные средства на депозитных счетах, вкладывает в ценные бумаги.
Алчность духовенства проявляется и в том, что церковь, отделенная от государства (Ст. 14 Конституции РФ), не стесняется получать на свои нужды от этого же государства субсидии. По подсчетам РБК, в период с 2012 по 2015 годы РПЦ и связанные с ней структуры получили из бюджета и от государственных организаций более 14 млрд рублей! И это при том, что необлагаемые налогами доходы РПЦ только от «профильной» деятельности – средства, полученные от продажи свечей, «пожертвования» за требы и поминовения, тарелочно-кружечный сбор, доходы от торговли утварью и книгами – по разным оценкам, составляют около 6 миллиардов рублей в год.
6 миллиардов!
Структура же расходов этих миллиардов, впрочем, как и их поступлений, сокрыта надежно, и, как оказалось, неизвестна даже протоиерею Всеволоду Чаплину, занимавшему до 24 декабря 2015 года весьма высокий пост председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества. Сложно судить по какой причине, но только потеряв этот свой высокий пост – быть может, именно потому что потерял – В. Чаплин, используя Facebook, вдруг взял, да и высказался жестко и однозначно: «Понимая все что угодно, считаю сокрытие доходов и особенно расходов центрального церковного бюджета совершенно безнравственным. Ни малейшего христианского оправдания такому сокрытию не может быть в принципе» [387].
28 мая 2019 года, участвуя в программе радиостанции «Комсомольская правда», протоиерей Дмитрий Смирнов, полемизируя с журналистом Максимом Шевченко по поводу захвата церковниками все новых и новых территорий в городах России под свои церковные строения, внезапно впал в гнев, и выпалил: «…У нас теперь в каждой тюрьме храм, часовня или молитвенная комната. Кому это вообще спать не дает?! Мы что – отбираем у людей? Воруем, что ли? Кому какое – позвольте, в кавычках скажу, – собачье дело до наших храмов?».
Вне всякого сомнения, г-н Смирнов, если б ваша церковь не прикрывалась именем Иисуса Христа, и не утверждала бы, что она – церковь христианская, то нам до ваших храмов, и до сокрытия доходов и расходов центрального церковного бюджета, конечно же, не было б никакого «собачьего дела». Но вы же поступаете как отъявленные фальсификаторы и мошенники, ведете народы прочь от истины и от Бога!?..
5. Фальсификация события – Тайная вечеря.
Церковники утверждают, что согласно синоптическим Евангелиям и Первому посланию коринфянам «апостола» Павла, Святое Причастие – Евхаристия – было установлено самим Иисусом Христом на Тайной вечере, и что «в повторении той Тайной вечери, когда накануне Своих страданий Господь научил учеников таинству Евхаристии, заключается основа христианской жизни» [388]. Не спорим. Но далее-то церковники заявляют будто бы Святое Причастие заключается в освящении и последующем вкушении квасного хлеба и броженого вина?!
А это они откуда взяли? Ведь ни в одном стихе Нового Завета нет свидетельств о том, каков был состав хлеба, находящегося в руках Иисуса, и каков был состав той жидкости, что в чашах.
О хлебе.
Вообще, если смотреть на суть, то нет никакой разницы, каков был этот хлеб – квасной, пресный, сдобный, ржаной, пшеничный… Главное – один ломоть разделить, как это сделал Иисус, и вкусить. И – все. Вкусить одно от одного и стать едиными друг с другом и Богом. Именно в этом суть ритуала. В его психологическом воздействии. В ощущении единства, которое возникает, когда мы, скажем, просто обнялись при встрече. Поэтому нет никакой надобности впадать в дурную буквальность – заявлять, будто бы хлеб пресуществляется – реально становится ТеломХристовым после той молитвы, которую над ним прошептал священник. Многие из нас вкушали просфору и – никакого привкуса Тела Божественного. Хлеб он и тут всего лишь хлеб. Как, впрочем, и молитва – всего лишь слова, произносимые для себя и себе самому отсылаемые. Если при произнесении молитвы человек, молитву произносящий, не претерпевает духовной трансформации, то уже не имеет никакого значения услышал ли эту молитву Господь. Противоестественной алхимии слов не существует. Если дважды два – четыре, так оно так и останется тем, чем есть – никой молитвой этого уже не изменить. С помощью молитвы человек, находящийся в трансе, медитирующий на горящую свечу, может лишь одно: внушить себе самому себе желаемое, изменить свою собственную духовную конфигурацию. И – ни йоты сверх того.
Следующий момент. Церковники заявляют: в тех местах Евангелий, где описывается Тайная вечеря, используется слово «ἄρτος» – «артос». Да, действительно, используется, но, как выше мы уже показали, Библия свидетельствует, что для древних греков понятие «артос» было понятием собирательным, и, соответственно, о составе хлеба ничего не говорило.
Кроме того, добавим к уже выше сказанному, если даже принять аргумент тех, кто полагает, будто бы 13 евреев так обмишурились, что Пасху отпраздновали не в то время, в какое было положено, а на несколько часов раньше – с чего бы это? – то ведь и этот аргумент значение имеет нулевое: хорошо известно, что «…в иудейских семьях с глубокой древности и доныне за два дня до Пасхи – 13 числа месяца нисана – хозяин уничтожает закваску, чтобы в доме не осталось квасного хлеба» [389].
Где ж это иудеи, пришедшее вечером 14 нисана, сидящие за пасхальным столом, умудрились найти тот самый квасной хлеб?
Далее, в Евангелии от Матфея мы читаем: «Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху» (Мф. 26:19). О том же и апостол Марк: «…и приготовили пасху» (Мк. 14:16). О том же и апостол Лука: «Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. <…> Они пошли … и приготовили пасху» (Лк. 22:7-13). Причем, как известно, Иисус и Его ученики были евреями и праздник, соответственно, собирались праздновать по-еврейски. Следовательно, пасха могла быть только с опресноками!
Что такое пасха? Что об этом говорят самые крупные специалисты? Открываем «Еврейскую энциклопедию».
1. Пасха по времени: «…первоначально в Библии название Пасха относилось только к вечеру с 14-го на 15-ое месяца Нисан, а слово Пасха в Библии часто означает собственно агнца, которого по Моисееву закону надо было закалывать 14-го Нисана к вечеру, и мясо которого надо было съедать в ту же ночь» [390].
Могли ли 13 иудеев праздновать Пасху 13-го, а не с вечера 14-го?
Ну, вот, как бы мы друг на друга смотрели, если б кто-то из нас вдруг предложил бы, скажем, отпраздновать наступление Нового года не в ночь с 31 декабря на 1 января, а с 30-го на 31?! А могли мы дружно, всей компанией как-то перепутать день?
2. Пасха, как компонент события I века: «библейская и талмудическая литературы знают слово «pesach», и соответствующую ему арамейскую форму «pascha», каковое название в Библии применялось только к пасхальному агнцу» [391]. Причем, «мясо агнца надо было съесть в ту же ночь и только в жареном виде, с опресноками и горькими травами» [392].
Так ведь Иисус Христос со своими 12 учениками так и поступили. Свидетельствует евангелист Лука: «И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания» (Лк. 22:14–15). Есть пасху! То есть, ягненка (или козленка) с травами и опресноками.
Именно с опресноками, т. к. квасной хлеб на еврейской пасхе вообще был исключен в соответствии с требованием ритуала. Квасное тесто еще до праздника – за два дня до праздника – евреи попросту сжигали.
Сторонники дрожжевания Святых Даров – вина и хлеба – одним из самых убойных считают аргумент о времени. Мол, Тайная вечеря состоялась до Пасхи. И, отвергнув свидетельства трех евангелистов, трех апостолов – Матфея, Марка и Луки, за истину берут стих из Евангелия от Иоанна, чье авторство, во-первых, под очень большим сомнением, а, во-вторых, написано, как полагают многие ученые, не ранее, чем через 60 лет после описываемых событий.
Итак, сам стих: «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху (Ин. 18:28).
Именно эти строки и вызвали в умах древних богословов настолько сильное помутнение, что они утвердились в однозначном: коль иудеи, которые привели Иисуса в преторию, еще не съели свою пасху, значит, Пасха еще впереди, она будет сегодня вечером, а не уже была вчера вечером, когда целых тринадцать иудеев ее вкушали на своей Тайной вечере. И богословам не пришла в голову совершенно простая мысль о том, что эти иудеи, которые привели Иисуса в преторию, только потому-то и не съели еще свою часть тушки пасхального ягненка, что они всю ночь рыскали в поисках этого самого Иисуса Христа. Как мы знаем, еще за два дня до Пасхи, «собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе» (Мф. 26:3–5). Но где находился Иисус – было неизвестно. Потому-то ведь вечеря и Тайная.
К тому же апостол Иоанн совершенно ничего не говорит нам про всех других иудеев – ели ли они пасху, в то время, когда ел ее Господь с учениками, или же тоже только собирались. И ничего не говорит нам апостол Иоанн о том, что же делали иудеи, в том числе те, которые привели Иисуса в преторию – вкусили ли, наконец, они свою пасху или же нет, когда ночью окровавленный Сын Божий висел на кресте.
О вине.
Сначала о чудесах перевода Нового Завета, где описывается Тайная вечеря.
В тексте, размещенном в Библии, вышедшей в 1995 году в издательстве «Русское Библейское Общество» по благословению патриарха Алексия II, есть строки: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Мф. 26:29). В греческом же тексте Евангелия от Матфея эта строка вообще не содержит слово «вино»: «Говорю же вам, нет не выпью отныне от этого плода виноградной лозы до дня того когда это буду пить с вами новое в Царстве Отца Моего» [393]. Отсутствует слово «вино» – Евангелие от Матфея, глава 26, стих 29 – и в Елизаветинской Библии, изданной в 1751 году на церковнославянском языке.



