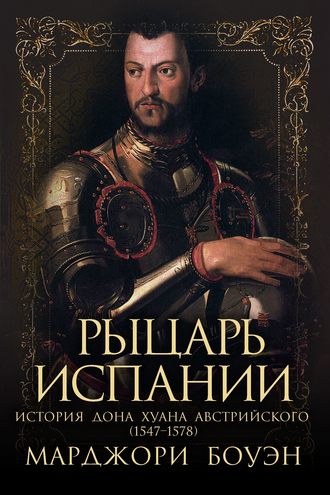
Полная версия
Рыцарь Испании
За ее спиной, в сумрачной глубине, играли в триктрак две французские дамы, а две испанские чесали шерсть. На коленях королевы лежал молитвенник, переплетенный в белый бархат, но она не читала.
Она пристально смотрела в пространство перед собою, погруженная в грустную задумчивость. В ее облике была какая-то молчаливая боязливость, словно она пережила суровое испытание, и оно навсегда омрачило ее сознание. Это странное выражение то появлялось, то исчезало с ее лица, но никогда не уходило надолго.
В Испании ее называли Исабель Мирной и считали почти святой за редкую доброту и кротость, но в ее милом лице не было ни умиротворения, ни праведной безмятежности, лишь безмолвный ужас.
Жемчужного цвета шелковое платье ее, лежащее широкими волнами, укрывало кожаное кресло и касалось черных плиток пола. Рядом с нею на низком инкрустированном табурете, сгорбившись, сидел дон Карлос, лишь недавно оправившийся от болезни.
Облокотившись о столик с клепсидрой, стоявший справа от королевы, дон Хуан читал вслух книгу в переплете, украшенном бирюзой.
Его приятный сильный голос произносил слова святой истории.
– И язычники исполнились к ним, а именно: к Святой Марии из Магдалы, Марии и Марте, сестрам Лазаря, которого воскресил Господь, и Иосифу Аримафейскому, испросившему тело Господа у Понтия Пилата, лютой ненавистью.
Тогда борьба между дьяволами и Господом Всевышним была еще в самом начале, ибо власть Рима, равно как и воинство Ада, были сильнее.
Поэтому язычники одолели этих святых людей, однако не осмелились поразить их, но заперли на старом корабле с пробоинами в днище и направили этот корабль прочь от берегов Италии, чтобы он погиб среди волн морских.
Но это не было угодно Господу, который послал ангела привести корабль в безопасную гавань.
Ангел, поглощенный размышлениями о делах небесных, не заметил, что он привел святых в город Марсель в Галлии, бывший городом язычников.
Итак, дьявол вновь нанес им удар, ибо язычники Марселя не дали им ни пищи, ни крова. Вскоре после этого появился другой ангел с корзиной фруктов…
Карлос перебил его.
– Прочитай об их мучениях, Хуан: как с них сдирали кожу, истязали клещами, окунали в смолу…
– Я умоляю вас, – торопливо произнесла королева, – не читайте дальше.
Хуан закрыл книгу. Он был в приподнятом настроении. Накануне во время крещения маленькой инфанты Клары Евгении ему было доверено держать младенца у купели, поскольку Карлос был еще слишком слаб, и этот знак королевского расположения казался ему лишь первой из почестей, ожидающих его в будущем.
– Вы не желаете слушать об этом? – разочарованно спросил Карлос.
– Нет.
Королева с трудом размыкала бледные губы, ее голос звучал слабо.
– Они были святыми Господа, – настаивал Карлос. – А Он повелел им подвергнуться пыткам.
– Увы! – пробормотала Елизавета. – Я слишком слаба, чтобы слушать об этом.
Будь перед ним любой другой человек, Карлос пришел бы в страшную ярость, но со своей мачехой, которая единственная, должно быть, проявляла к нему истинную доброту, он всегда был мягок. Поэтому он ограничился тем, что сказал:
– Это не хуже, чем наказание еретиков в наше время.
Елизавета вздрогнула.
– На следующей неделе снова будет аутодафе, – продолжил Карлос. – Вальдес, – он назвал имя энергичного Великого Инквизитора, – говорит, что тюрьмы переполнены и их надо освободить для новых еретиков, которых он ежедневно арестовывает. Господи! Будут сожжены семьдесят три еретика, не считая евреев, и тридцать из них – женщины.
Лицо королевы теперь было белее высоких брыжей, тесно прилегающих к ее щекам и касающихся кончиков завитков ее светлых волос.
– Не говорите об этом, – попросила она слабым голосом.
– О сожжениях! – воскликнул Карлос.
Хуан удивленно посмотрел на нее. Неужели ей жаль еретиков?
Он перекрестился.
Елизавета перевела взгляд с одного юноши на другого, ее прекрасные глаза, окруженные тенями после болезни, были полны слез.
– Я знаю, что они потерянные души, – проговорила она, – но видеть, как они горят, ужасно.
– Мы все должны пойти, – ответил Хуан.
Впервые он увидел аутодафе, когда ему было двенадцать лет. О самой казни он помнил лишь ощущение дурноты от ужаса, охватившего его тогда, однако донья Магдалена, его мачеха, добрейшая из женщин, привела его туда и ни разу не отвела глаз от пылающих столбов, к которым цепями были прикованы женщины, столь же благородные и утонченные, сколь и она сама.
Он с беспокойством посмотрел на королеву.
– Я не пойду, – с глубоким волнением проговорила она, – я не могу.
– Не подобает жалеть еретиков, – угрюмо ответил Карлос.
– Это спасает их души, – добавил Хуан.
– Я бы предпочла, чтобы меня отправили предстать перед Господом и чтобы Он судил меня! Разве Он не Господь милосердный? А люди не милосердны.
Она прижала свои хрупкие маленькие ладони к груди и повторила:
– Нет, не милосердны.
Подняв бледное лицо, еще хранящее следы недавней болезни, Карлос пристально посмотрел на нее снизу. Затем помолчал немного, стремясь понять ее чувства, и сказал:
– Когда я стану королем, аутодафе не будет, если вам это угодно.
– Благослови вас бог, Карлос! – вырвалось у бедной королевы. – Я верю, что вы любите меня.
Он схватил расшитый жемчугом край ее платья и осыпал его поцелуями. Елизавета Валуа взглянула на некрасивое создание, которое было столь благодарно ей за доброту, и слезы наполнили глаза и потекли по ее щекам.
– Я дала золотой пояс Богоматери из Аточи, – сказала она, – за то, что она спасла вас, Карлос.
– Нет, меня спас брат Диего, – ответил он, – и я попросил Его Святейшество сделать его святым.
Королева слабо улыбнулась Хуану.
– Кто же спас его? – спросила она.
– Я думаю, это был хирург-мориск, – ответил тот с обычной веселой беспечностью.
Карлос пронзительно закричал:
– Это был брат Диего! Брат Диего! – вскочил и ударил Хуана слабой рукой.
Королева удержала его за запястье.
– Карлос, – сказала она с большим достоинством, – я недовольна вами.
Он сразу же утих, и Хуан добродушно рассмеялся.
– Господи! Ну, конечно, это был брат Диего.
Внезапно темные двери распахнулись настежь, и привратники в королевских ливреях провозгласили:
– Его Величество король.
Елизавета поднялась с кресла.
Медленно вошел дон Фелипе, облачённый во всё фиолетовое. Его лицо было желтым, как старый пергамент, лишь уголки глаз выделялись алым цветом, как будто по ним разлилась кровь.
Драгоценности украшали его грудь, короткие шоссы с большими пышными буфами были жесткими от золотых и серебряных нитей, и вся его фигура мрачно поблескивала даже в полумраке завешанной гобеленами комнаты.
Едва взглянув на жену пустыми глазами, он устремил пронзительный взор на сына. Его тонкие ноздри затрепетали, а полные губы скривились.
Хуан тоже посмотрел на Карлоса и увидел, что лицо принца исказилось от страха.
Королева тоже увидела это и без раздумий шагнула вперед и встала между мужем и его сыном, как часто делала прежде.
Карлос схватил край ее черной кружевной шали и прижал к дрожащим губам.
– Карлос, – промолвил король, – ты был в конюшне.
Инфант разразился безумным смехом.
– Конюх, который дал тебе ключи, сейчас подвергается наказанию плетьми, – продолжил Фелипе.
Королева вздрогнула и опустила взгляд. Король, по-прежнему глядя мимо нее и обращаясь к сыну, который втянул голову в плечи от страха, продолжил:
– Мой любимый жеребец мертв, Карлос.
В комнате повисла ужасная тишина, затем Карлос сказал:
– Конечно, мертв. Я ударил его шпагой. Неужели вы думали, что это очень трудно – убить какую-то лошадь?
Елизавета отпрыгнула от принца, оставив шаль в его руках.
– Карлос! – взвизгнула она.
Он вновь засмеялся.
– Ступай к себе, – сказал король. – Вижу, ты недостоин распоряжаться свободой. Дон Руй Гомес-и-де-Сильва будет присматривать за тобой.
Услышав имя своего главного недруга, несчастный принц разразился потоком жалоб и криков и принялся умолять королеву его спасти.
Но она лишь стояла, прямая и бледная в полумраке, и впервые ни единым словом не отвечала на его мольбы.
А Хуан смотрел на него с презрением.
– Иди, – сказал Фелипе.
Судорога прошла по телу Карлоса, он бросил последний умоляющий, отчаянный взгляд на сжавшуюся фигуру королевы и, прихрамывая, побрел из комнаты. Фелипе проводил его тусклым от ненависти взглядом.
Елизавета смотрела на него, переводя дыхание, затем оглянулась вокруг. Французские дамы не поднимали глаз от игры, испанские – от работы. Во внутренней комнате, дверь в которую была открыта, четыре старые дуэньи продолжали перебирать четки.
Она почувствовала себя словно в тюрьме или в клетке.
– Какое наказание его ожидает, Ваше Величество? – дрожа, спросила королева. – Мне кажется, он не в себе.
Фелипе холодно посмотрел на нее. В последнее время она не пользовалась его расположением, он не мог простить ей, что рожденный ею ребенок – не мальчик.
– Это был прекрасный берберийский жеребец, – только и ответил он. – Неужели нельзя было ограничиться собаками и кроликами?
– Неужели… Карлос… убивает? – запинаясь, пролепетала королева.
Вновь дон Фелипе не удостоил ее ответом. Он положил ладони на бедра поверх пышных парчовых панталон и задал ей встречный вопрос.
– О чем вы хотели сегодня сказать мне, Елизавета, когда мы покидали часовню, и я не мог выслушать вас, поскольку принц Эболи желал поговорить со мною?
Королева еще более побледнела, хотя это и казалось невозможным. Было очевидно, что под пышной юбкой с фижмами она вся дрожит.
– Я хотела попросить Ваше Величество позволить мне не присутствовать на аутодафе, – произнесла она, запинаясь. – Я не очень хорошо себя чувствую. Я нездорова.
Ее бледное лицо и исхудавшее тело подтверждали ее слова. Король посмотрел на нее, как мог бы посмотреть на собаку, отказавшуюся его сопровождать. Однако ледяная кастильская учтивость не изменила ему.
– Ваше Величество должны проконсультироваться с врачами, – сказал он.
Королева поднесла руку к своему горлу и хрипло ответила:
– Сеньор, мне не нужен врач, но позвольте мне не присутствовать на аутодафе.
Лицо дона Фелипе осталось бесстрастным. С тем же успехом она могла бы молить о сострадании мраморную статую.
– Не присутствовать? – повторил он. – Позволить вам не присутствовать?
– Я не люблю эти зрелища, – отчаянно сказала она, – они навечно остаются в моей памяти. Навечно. Навсегда. – Она овладела собой. – Простите меня. Мне нехорошо.
– Вы чувствуете себя достаточно хорошо, чтобы присутствовать на церковном празднике, – ответил он. – Или вы желаете навлечь на меня гнев Господа после того, как Он исцелил моего сына?
– Я не могу пойти, – сказала королева. – Все они люди, мужчины и женщины – и вдруг они горят. И одну из них я знала – это донья Луиса, которая полгода назад сидела рядом со мною. Разве я смогу наблюдать, как пламя пожирает ее тело?
– Вы должны возрадоваться, – угрюмо ответил дон Фелипе, – что вам дарована привилегия увидеть казнь этих еретиков, проклятых Господом.
Силы явно оставили королеву, вновь она беспомощным взором обвела комнату, погруженную в полумрак.
Фрейлины и старые женщины по-прежнему не шевелились, никакой ветерок не колыхал длинные, тусклые занавеси. Дон Хуан стоял неподвижно, прислонившись к стене и потупив взор. Елизавета Валуа опустилась на жесткий темный стул.
– Если у вас есть хотя бы капля жалости ко мне, – попросила она, – я умоляю вас, избавьте меня от этого.
Нарушение этикета, столь высоко им ценимого и всегда соблюдаемого, привело дона Фелипе в бешенство, однако он не изменился в лице.
– Вопрос закрыт, – высокомерно ответил он. – Вы будете присутствовать на аутодафе.
Он церемонно попрощался с нею и покинул комнату.
Елизавета исступленно взглянула на Хуана, это был взгляд человека, чья душа ранена и измучена.
– Mon Dieu! Mon Dieu! – воскликнула она на своем родном языке. – Как я страдаю! Я так страдаю!
Хуан посмотрел на нее, он был взволнован и смущен. Король был ненавистен ему в тот момент, и ему казалось, что все происходит не так, как должно происходить. Он был гораздо счастливее, шагая босиком через рисовые поля в школу или уединенно живя с доньей Магдаленой в Вильягарсия. Дворец был ужасен – ничем не лучше могилы.
Его лицо вспыхнуло от этих мыслей.
– И почему Господь не может сам карать еретиков? – порывисто воскликнул он. – Конечно, это ужасно – смотреть, как они горят.
Королева молитвенно сложила ладони и подняла взгляд печальных голубых глаз.
– Господь любит кровь и страдания, – сказала она с чувством. – Господь взирает на израненный мир и доволен. Но где-то существует нечто, что ненавидит все это и не позволило бы, чтобы даже муха или цветок были насильно лишены своего малого счастья!
– Но ведь существуют лишь Бог и дьявол, – удивленно ответил Хуан.
– Умеете ли вы отличить одного от другого? – с отчаянием спросила королева.
Хуан промолчал в ответ на это кощунство. Ему показалось, что слова Елизаветы направлены против Всемогущего Господа, однако он почувствовал к ней уважение, не меньшее, чем к донье Магдалене, и великое сострадание, а к святому королю неприязнь.
Ценности его мира низвергались, и он почувствовал себя лишенным опоры.
Елизавета оглянулась, чтобы убедиться, что дамы не смотрят в их сторону, ибо она знала, что испанские дуэньи приставлены к ней, чтобы следить за каждым ее словом и взглядом, и с лихорадочным волнением сжала руку дона Хуана.
– Бегите отсюда, – зашептала она, – вам льстят, вас обольщают – бегите, пока можете! Это могила. Я умру здесь и буду погребена, и другая женщина займет мое место. Ах, если бы я могла умереть сегодня! Мне всего двадцать два года, но я чувствую себя старой от одиночества и горя, которые до конца будут со мною!
– О, Господи! – вскричал Хуан, белый как полотно. – Так не должно быть!
– Я никогда не была счастлива, ни единого мгновения, – продолжала бедная королева. Ее голос стал еще тише. – Не от холодной ли его жестокости умерла его английская жена? Карлос тоже умрет. Бегите! Есть ли где-нибудь хоть кто-то, кого вы любите? Тогда спешите к ним и никогда не возвращайтесь в Эскориал, никогда! Никогда!
Одна из дуэний, расслышав шепот королевы, встала и, приблизившись, напомнила Ее Величеству, что уже время мессы. Елизавета обратила на нее взор, полный страдания.
Затем она протянула руку дону Хуану.
– Ступайте, – сказала она громко, – и запомните мои слова. Постарайтесь избежать такой судьбы.
Хуан поцеловал ее дрожащую руку, отягощенную самыми прекрасными драгоценностями в Испании, и молча оставил жену своего брата.
Глава VII. Дон Хуан уезжает
Во время пребывания королевского двора в Сеговии, когда король и его приближенные наслаждались зрелищем боя быков, дон Хуан, взяв кошель с деньгами и двоих человек в качестве эскорта, покинул город.
Он оставил двор по двум причинам. Во-первых, он желал показать, присоединившись к мальтийским рыцарям, чей остров был недавно осажден флотами Сулеймана, что он гораздо более подходит, чтобы быть воином, нежели священником. На помощь этому христианскому ордену отбыл дон Гарсия де Толедо, вице-король Сицилии, и дон Хуан уже просил короля позволить ему встать под его знамена, но получил отказ.
Вторая причина его отъезда заключалась в том, что в его сердце все еще звучали слова королевы: «Есть ли где-нибудь хоть кто-то, кого вы любите? Тогда спешите к ним», и он жаждал увидеть донью Ану.
Сначала он отправился в сторону Барселоны с намерением отплыть на Мальту и не возвращаться в Испанию, пока не совершит великие дела, но затем развернулся и поехал в Алькалу под видом наёмника.
В его голове теснились мысли о том, что он мог бы осуществить. Он представлял себе, как возьмет Ану де Сантофимия в седло перед собою, увезет и поселит в каком-нибудь монастыре дожидаться его возвращения.
Ему хотелось стать свободным, вырваться на волю. Он с отвращением думал о дворе с неподвижной фигурой дона Фелипе в центре и фигурами остальных – дона Карлоса, Елизаветы Валуа, Аны д’Эболи, ее мужа, герцога Альбы и дона Алессандро, проводящих время в церемонных поклонах, ожидая, когда король найдет им применение.
Королева предупредила его. Он знал о намерении короля сделать его служителем церкви и не верил доброжелательным словам принцессы Эболи. Он думал, что сам способен создать свое будущее: в конце концов, он был сыном Карла V.
Тучи собирались вокруг инфанта, чье безумное поведение постоянно навлекало на него гнев короля; несчастья смыкались вокруг бледной королевы; яростно пылали костры инквизиции, и шпионы Великого Инквизитора день и ночь трудились, доставляя к столбам новых еретиков; росло недовольство политикой короны в Нидерландах; восстания упрямо вспыхивали в Бельгии, каждый день отдавались приказы, посылавшие людей на бой и на смерть.
Однако дон Хуан не думал об этом. Он желал всегда оставаться верным королю, но при этом не становиться священником или гонителем его врагов, а самому выбрать свой путь.
Поэтому он покинул двор, взяв с собою отличную упряжь и белого коня, доспехи миланской работы и двоих слуг, которые везли седельные сумки.
В Эль-Фрасно он почувствовал легкое недомогание и был вынужден ненадолго задержаться, прежде чем смог снова сесть на лошадь. Там его нагнал дон Хуан Мануэль, посланный королем, и передал письмо от дона Луиса де Кихады, в котором тот настоятельно советовал ему вернуться. Дон Хуан не внял его совету.
Вскоре прибыли губернатор и архиепископ Сарагосы, чтобы оказать ему почтение и умолить поехать обратно в Сеговию.
Они сказали, что галеры, собранные для снятия осады с Мальты, уже отплыли, но Хуан не обратил внимания на их слова, поскольку, по его сведениям, королевский флот все еще стоял в гавани Барселоны.
Не слушал он и мольбы подождать, пока будет собран эскорт из полутора тысяч воинов, чтобы его сопровождать, – как только он оправился от болезни, он вновь сел в седло.
Однако, даже рискуя опоздать к отбытию флота, он устремил свой путь не в Барселону, а в Алькалу. Он уехал из этого городка в конце лета, теперь же была уже поздняя весна.
Хуан достиг Алькалы на заходе солнца. Оставив слуг на постоялом дворе внутри городских стен, он один подъехал к дому доньи Аны.
Железные ворота уже заперли, и, хотя все ставни дворца были открыты, пропуская вечернюю прохладу, в темных комнатах никого не было видно.
Хуан оставил лошадь на постоялом дворе и, вернувшись пешком, прошелся вверх и вниз по узкой улочке, надвинув шляпу на глаза, чтобы никто не узнал его, и насвистывая песенку, которую выучил в Вильягарсия. Когда стемнело, но еще не взошла луна, он перелез через ворота и осторожно проник во двор.
Ни привратника, ни собак нигде не было видно, и он, посмеиваясь про себя, прошел через все еще открытые внутренние ворота и достиг внутреннего двора и маленькой двери, через которую служанка доньи Аны провела его в прошлый раз. Света от бледно-зеленого неба было еще достаточно, чтобы найти дверную ручку, но сама дверь оказалась заперта.
Он прислонился к ней спиной, скрытый глубокой тенью двух пышных кипарисов, и немного подождал.
В доме явно все уже спали, окна были темными. Единственным звуком, нарушающим тишину, был хорошо памятный ему плеск фонтана о низкую каменную чашу, окруженную четырьмя сидящими львами.
Хуан отыскал глазами балкон той комнаты, где Ана когда-то приняла его. Когда он смотрел вверх, вглядываясь в его очертания, неясные в наступающей темноте, пленительные воспоминания о той ночи нахлынули на него. Он вспомнил раскаты грома, шум дождя, служанку в коричневом платье и белом чепце, вносящую мокрые горшки с розами, чтобы они не пострадали от грозы, комнату с белыми стенами и черной мебелью, озаренную мягким янтарным светом лампы, и прежде всего прекрасную фигуру доньи Аны и чудесное выражение, озарившее ее очаровательное лицо.
Он по-прежнему носил под дублетом голубую розу. Более чем когда-либо она воплощала для него идеальное счастье, которое нужно так долго искать, и совершенный успех, которого так трудно достигнуть.
Он подошел к балкону.
Рядом с домом рос молодой каштан, темная густая крона которого чуть слышно шелестела. Он подумал, что мог бы подняться по нему, и тихо положил руки на гладкий прохладный ствол.
Его сердце затрепетало, и этот трепет был чем-то сродни грусти. Чувствуя щекою дуновение ветерка, колышущего листья каштана, глядя на последний отблеск уходящего дня над темной линией крыш, он ощутил почти невыносимое наслаждение.
Запел соловей, и его пение было как мелодия серебряных инструментов в руках ангелов.
Душистый аромат лимона, мирта, олеандра и розы наполнил прохладную чистоту ночи, сошедшей на город.
Высоко над его головою среди темных ветвей кипариса сияли сквозь сгущающийся мрак бледные цветы магнолии, изливая полный истомы аромат в сладко вздыхающий воздух.
Хуан влез на дерево, точно так же, как он влезал на деревья в саду, раскинувшемся вокруг Юсте, чтобы поесть украденных яблок в тени ветвей, когда император лежал при смерти, и звуки долгих церковных служб доносились из-за стен монастыря.
То, что он делал сейчас, было так же просто, так же сладостно и, без сомнения, так же дурно, как воровать яблоки. Он подумал о том, что сказала ему королева: «Есть ли где-нибудь хоть кто-то, кого вы любите? Тогда спешите к ним». Ана любила его. Она была прекрасным созданием – и она любила его.
Было удивительно, что в мире, запятнанном кровью, мире, который Господь наказывал столь сурово, существовали такие вещи, как любовь, – и соловьи.
Он осторожно поставил ногу на балкон и замер, прислушиваясь.
Он слышал однажды, что, по мнению праведников, соловьев создал дьявол, чтобы они отвлекали людей от молитв, и, если молиться достаточно истово и не слушать, то они улетают, и потому соловьи не поют около церквей.
Захлебывающиеся трели птицы напомнили ему об этом.
Он не перекрестился, как обычно делал в присутствии чего-то, что считал неправедным. Ему вдруг пришло в голову, что если дьявол создал соловьев, то, возможно, именно он создал и любовь, и тогда получается, что ненависть была создана Богом. Хуан тихо рассмеялся и стал медленно пробираться среди горшков с заботливо постриженными розами, расставленными на балконе.
Ночь обещала быть очень жаркой, и окно было открыто. Хуан вступил в полутемную комнату и остановился. Он снова прислушался и вновь не услышал ни звука, кроме пения соловьев.
Он стоял совсем тихо и обеими руками держал шпагу, чтобы она не зазвенела.
Неужели она уехала? Или замужем? Или мертва?
Его сердце взывало к ней. Он напряг слух, стараясь различить шорох ее плотных шелковых юбок, и тут же улыбнулся тому, что вообразил, будто она ждет его. Она не знала, что он едет к ней, – должно быть, она спит в своей комнате.
Он тихо вошел в соседнюю комнату. В ней были полностью занавешены окна, и было так темно, что он не видел собственных ног.
– Ана, – тихо прошептал он. – Ана.
Он пошел вперед и что-то задел. Видимо, лютню – ее струны зазвенели в темноте.
Затем Хуан увидел прямо перед собою длинную тонкую линию слабого света. Он предположил, что свет пробивается из-за закрытой двери, и медленно пошел к ней, ведя рукою вдоль стены и касаясь гобеленов и спинок стульев. Дойдя до источника света, он пошарил в поисках дверной ручки и нащупал ее. Она повернулась в его ладони, и дверь открылась.
Он заглянул в маленькую круглую молельню, пропитанную запахом ладана.
Арочный потолок был голубым с золотыми звездами, стены – алыми с позолотой. На маленьком алтаре, опирающемся на множество столбиков, стояла белая алебастровая статуя Девы Марии, увенчанная свежими цветами жасмина.
По обе стороны от Девы горело по четыре свечки на агатовых основаниях. Алтарное облачение и ковровая дорожка, покрывающая четыре ступени, были из пурпурной плотной ткани.
В углу он увидел желтую бархатную скамеечку для молитвы, на ее сиденье лежала большая книга в темно-красном переплете, а рядом стояла, не сводя с него удивленных глаз, донья Ана де Сантофимия.
Хуан закрыл дверь и медленно опустился на колени.
Молельню освещало лишь неяркое голубое пламя серебряной лампы, висящей перед изваянием Святой Девы, которое озаряло алтарь и наполняло остальное пространство молельни трепещущими тенями.
Голову Аны покрывала черная кружевная шаль, сквозь которую поблескивали уже знакомые ему длинные серьги в форме колосков.
Ее расшитое золотом платье, казалось, плавно переходило в богатый орнамент, украшавший стены.


