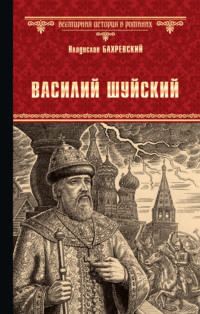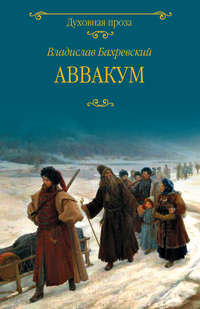Полная версия
Царская карусель. Война с Кутузовым
Разговор за столом получился опасно откровенным. Впрочем, Михаил Илларионович умолчал еще об одном пророчестве. Великий князь Александр чихнул во время обеда, и Павел тотчас поздравил сына: «За исполнение Ваших желаний».
Столь удивительная доверчивость расположила к главнокомандующему штабных офицеров – это само собою – но и Ланжерона! Ретивый генерал даже в мыслях не мог себе представить, какое нежданное известие получит он завтра из ставки Кутузова.
Удар льва
Кутузов и Марков – орлы суворовского гнезда. Куда только подевались старческая медлительность, изнуряющая быстрых осторожность?!
Суда и паромы, тайно неделями доставлявшиеся с Ольты, корабли Дунайской флотилии, стоявшие на реке Лом, в ночь с первого на втрое октября переправили корпус генерала Маркова в двадцати верстах от Рущука, выше по течению. Причем конница одолела многоводный Дунай вплавь.
Утром, когда турки собирались встретить солнце намазом, среди ясного неба полыхнули молнии, лопнули гранаты, завизжала, как бешеная, картечь, и уже в следующее мгновение пораженное карой небесной воинство ислама увидело лес штыков и лавину конницы, обтекшую редуты боевого лагеря.
Какое там сражение! Было безумное бегство от смерти и жестокая резня.
На плечах отступающих пехота Евгения Иванович Маркова захватила лагерь со всем его богатством.
Из-за реки Ахмед-паша с ужасом взирал на разгром, помешать коему было невозможно.
Уже в полдень Кутузов слушал доклад адъютанта генерала Маркова:
– Приказ исполнен. Потери противника – три с половиной тысячи убитыми, четыреста солдат взяты в плен. Захвачено восемь пушек, двадцать два знамени и весь обоз с продовольствием, с порохом, со свинцом, с казной. А главное, взят берег и все турецкие суда. Сношение лагеря визиря с Рущуком прервано. Убитых и раненых с нашей стороны сорок девять человек. Ольвиопольского гусарского полка майор Бибиков из-за его храбрости ранен и попал в плен.
Главнокомандующий Молдавской армии тотчас отправил сообщение о взятии турецкого лагеря на правом берегу Дуная министру Барклаю де Толли: «Благоразумие и быстрота генерала Маркова превосходят все похвалы».
Нападавший, выжидавший наивыгоднейшего момента для уничтожения противника – за одно несчастное утро оказался в окружении и на краю неотвратимой погибели.
– Вот он вам, старичок Кутузов! – Солдаты веселыми глазами поглядывали на хулителей командующего: на Ланжерона, на штабную немецкую спесь.
Михаил Илларионович радости не скрывал – победа редкостная, а в сердце покалывало: за успех плачено пленением родного человека.
Однако ж вечером Марков прислал парламентера из Рушука. Вели-паша и целое министерство, кое визирь привез на войну, просили пропустить своего посланца к Ахмед-паше, с требованием начать немедленно переговоры о заключении мира, предварив сей шаг перемирием.
Вели-паша предлагал также разменять пленного майора.
Кутузов посланца пашей к Ахмед-паше не пропустил, но обязался передавать письма туда и обратно.
Впрочем, визирь сам прислал своего человека: предлагал перемирие.
– Попался воитель, – посмеивался Кутузов. – Сам в мышеловку припрыгал.
Ночью на Дунае поднялась буря, дождь лил, будто лошадей нахлестывал.
Утром Кутузову сообщили: Ахмед-паша, рискуя утонуть, на лодчонке с двумя гребцами бежал в Рущук. Но и Рущук был в осаде.
Через неделю после победного рейда Маркова Михаил Илларионович отчитывался супруге Екатерине Ильиничне:
«Я, мой друг, слава богу, здоров, только так устал, что насилу хожу – несколько месяцев на аванпостах. С визирем зачал и о мире говорить. Турки, которые заперты восемь дней, уже едят лошадиное мясо, без хлеба и без соли, и не сдаются. Вот письмо к Катерине Александровне Бибиковой. Отправьте от себя и поручите кому сказать ей осторожно. Впрочем, ему очень хорошо и он здоров. Визирь мне приказал сказать, что он хочет опробовать, где ему лучше будет жить, у дяди или у отца, то есть отец он. Вчерась к визирю привезли десять лимонов, из которых он отдал ему пять. Детей всех благодарю за письмы, с вчерашнем курьером получил. Боже их благослови. Федора Петровича благодарю за табак».
Еще через неделю Ахмед-паша отпустил майора Бибикова без размена и без каких-либо просьб. Пашенька был ранен в руку. Рана опасности не вызывала, но Михаил Илларионович отправил храбреца гусара в отпуск, на домашнее излечение.
А между тем турецкий лагерь на левом берегу постоянно обстреливался и с редутов, и с реки. Пушки на кораблях стояли небольшие, 24-фунтовые, да ведь каждое ядро – чья-то смерть или увечье.
Наконец перемирие было заключено. Сначала предварительное. Кутузов взял на себя продовольственное обеспечение турецкого лагеря, но выдавал сухарей по фунту на человека, мяса позволял купить три тысячи фунтов на день, а едоков осталось тысяч двенадцать…
Только через месяц, в конце ноября 1811 года остатки армии Ахмед-паши были выведены из лагеря. Турки не были пленными, их разместили по деревням ждать заключения мира.
Русские корпуса, по соглашению с визирем, вернулись на левый берег Дуная. Война закончилась.
26 ноября Михаил Илларионович сообщил Екатерине Ильинична радость: «Я, слава богу, здоров, мой друг, всё у меня хорошо и всё по желанию… Забыл тебя поздравить графиней».
16 сентября генералу от инфантерии Кутузову исполнилось шестьдесят шесть лет, а 18 октября царь пожаловал главнокомандующему Молдавской армии титул графа.
– По желанию у него! – заливалась счастливым смехом графиня Екатерина Ильинична. Ей сообщили о Гуниани. – Вот старик! – восхищалась своим генералом сподвижница его походов, мать его дочерей. – Он всегда обожал наш пол. Боготворит его и по сей день.
Часть вторая
Государственный секретарь и другие
Открытие лицея
Граф Алексей Кириллович, величавый, державный в своем доме, вдруг выказал себя суетливым и даже трусящим: предстояло открытие Лицея.
Экзамены в святая-святых, где будут растить мужей судьбоносных, предназначенных для служб государю и государству, прошли еще в августе. Отобрано тридцать отроков, умноглазых, отрадноликих, все из хороших семейств, но не оконфузятся ли перед государем и царствующим семейством? Покажутся ли достойными предлагаемые условия жизни воспитанников, приглянутся ли учителя?
Алексей Кириллович ежедневно мчался в Царское Село, сам осматривал воспитанников, сам проводил репетиции. Учеников строили, вводили в залу. Указывали, как надобно стоять, как выходить из строя. Учили кланяться креслам, в коих будут сидеть их величества, их высочества. С поклонами пришлось помучиться. У одних – недопустимая развязность в движениях, у других ничем неодолимая скованность, а иные с их поклонами хуже скоморохов – нелепы!
Алексей Кириллович всякий приезд поднимался на четвертый этаж, и, вместе с Василием Федоровичем Малиновским – директором, с инспектором Пилецким-Урбановичем, осматривали дортуар воспитанников.
Множество дверей – у каждого воспитанника своя комната. На двери номер, имя, фамилия.
Комната-келия. Кровать железная. Государь любит строгое воспитание. Ничего лишнего. Конторка с чернильницей, подсвечник, щипцы для свечей, стул. Небольшой комод, зеркало. Умывальный столик. Прохладно. Государь одобряет закаливание. Зимой, в морозы, принимает парады в одном мундире.
Богато в зале. Зеркала во всю стену, паркетный пол, мебель штофная.
Алексея Кирилловича беспокоила форма воспитанников. Мундиры синего сукна с красными воротниками, петлицы шиты серебром – отличие первокурсников. В старших классах получат золотые. Белые панталоны – Господи! – какого цвета они будут через неделю? Белые жилеты, белые галстуки. Красиво, но не надолго. Ботфорты, треуголка! Это государю нравится.
Министр в последний раз всё взвешивал, просчитывал варианты возможного высочайшего неудовольствия.
Естественные науки, историю, археологию граф Жозеф де Местр, фактический генерал ордена иезуитов в России, назвал вредными и не рекомендовал вводить в программу Лицея. Де Местр – посланник королевства Сардинии, но его не столько занимает дипломатия, сколько внедрение в умы вельможной России ценностей католического Запада. Генерал ордена иезуитов ненавидит православие, но в петербургских салонах слывет гением мысли. Мнение де Местра о программе Лицея граф Алексей Кириллович передал Александру. Император, как всегда, поступил половинчато. Естественные науки из программы исключил, но историю оставил.
Директор Лицея Василий Федорович Малиновский из дипломатов, сын священника. Алексей Кириллович прочитал несколько его статей. В «Рассуждении о мире и войне» Малиновский изничтожал завоевательную политику, проповедовал общий справедливый мир. Это современно, позиция вполне антинаполеоновская, отвечает стремлениям государя. В журнальных статьях Василий Федорович ратовал за равенство народов и людей, желал России промышленного развития и в особенности культурного. Сие не расходится с политикой Михаила Михайловича Сперанского, а Сперанский Александру покуда угоден.
Некоторые сомнения у министра возникали по поводу адъюнкт-профессора нравственных и политических наук Александра Петровича Куницына. Уж больно свободен в слове, мыслит не пером по бумаге, а в речах. Мимолетное, только что пришедшее на ум, может объявить неоспоримой истиной. Впрочем, страстный последователь Руссо, свой, масон.
И вот – 19 октября, день пророка Иоиля, прозревшего о дне Пятидесятницы: «Излию от Духа Моего на всякую плоть».
Всё прошло замечательно.
Были скучные нотации, кинувшие высочайшую публику в сон, и была пламенная речь Куницына, всех окрылившая. Государь за сию речь наградил молодого профессора орденом. Удостоился звезды и главный устроитель лицея – министр просвещения граф Алексей Кириллович Разумовский.
Покончив с лицейскими делами, хотя они только теперь и начинались, граф обрел покой и ни на кого в доме своем уже не сердился, был приветлив, доступен.
За столом так даже делился наблюдениями об участниках церемонии. Граф был зорок, когда нервы напряжены.
– Я приметил, Мария Михайловна, – говорил граф своей сожительнице, – сколь тяжкую ношу влачит на своих плечах наш государь. Какое утомленное у него лицо! Глаза воспалены. Он работает с утра до полуночи. Слава богу, мой Лицей ему в отраду. И вот что замечательно. Воспитанники, я это видел, понимали: сама история пришла к ним. Лица пылали любовью к государю. Когда отроки серьезны – взрослые улыбаются, но сколь счастливо расцветали все эти мордашки после своего представления государю и высочайшему семейству… Меня немножко напугал арапчонок Пушкин. Истинный арапчонок, хоть и синеглаз, как государь. Волосы кучерявые, в глазах огонь, и носик у него этакий… африканский, одним словом.
– А напугал-то чем? – спросила Мария Михайловна.
– Господи! Уж так воззрился на государыню Елизавету Алексеевну. Как на божество!
– Плохо ли сие? Они же у вашего сиятельства – дети. Им лет по десяти?
– В основном тринадцать. Пушкину – двенадцать…
– Выходит, обошлось, – сказала добродушная Мария Михайловна.
– Обошлось! – засмеялся граф. – Я голубчикам воли не дам. Уже написал распоряжение: запретить отпуски и посещения. Видеться с родными можно будет только по праздникам.
– Для столь юных особ не жестоко ли испытание? – осторожно спросила Мария Михайловна.
– Жестоко, – согласился граф. – Их у меня тридцать, и все они будут за шесть лет учебы и жизни в одних стенах – роднёй. Будущее им загадано самое блистательное. Занявши высокие посты в государстве, они палок в колеса не станут совать друг другу, как делается у нынешних чиновников. Это будет семья. Все народят детей – и вот она каста. Каста высоких духом государственников. Мы, дорогая, далеко заглядываем.
– А что Мартынов, не огорчает ли ваше сиятельство?
– Эко вспомнила! Я ненавидел сего наискучнейшего чиновника, будучи попечителем Московского университета, подлейше меня донимал мелочными придирками. Ныне иное. Я испытываю истинное наслаждение, когда сей бывший враг докладывает мне стоя и потом, согнув спину, засыпает песком им составленную, но мною подписанную бумагу… Он мне полезен, и бог с ним.
Мария Михайловна радовалась доброму настроению графа и раздумывала, уместно ли напомнить об Алексее… Алексей вступил-таки в армию, и граф о нем забыл накрепко. А в армии без протекции далеко не пойдешь.
Но господин министр был поглощен заботами об одном только любезном ему Лицее.
– Я много думаю о судьбе моих отроков, – признался Алексей Кириллович. – Они достигнут служебной зрелости лет через тридцать, а государственной так и через все сорок. Суждено ли кому-то из них быть водителем государственного корабля, прославить себя и нас, их попечителей, саму Россию?.. Все умненькие, все по-своему милы. Быть ли Ломоносову Ломоносовым, а князю Горчакову князем в делах, к коим будет определен предназначением свыше? Самый даровитый из воспитанников Вольховский, но в учении. Явит ли даровитость в службе? Пушкин, я сие приметил, бесенок. Такому потолок – чин надворного советника. Матюшкин мне нравится. Серьезность во взгляде, в жестах, в ответах. Чучелом среди тридцати смотрится один Кюхельбекер, но память у него потрясающая! Корнилов, Юдин, Маслов – этим быть генералами. Кстати, сынок моего Мартынова среди лицеистов. Не думаю, чтоб дальше отца пошел. Породы нет. – И потряс головой: – Пора освободиться от лицейского сего наваждения.
Мария Михайловна встрепенулась об Алексее напомнить, и духа не хватило.
– Лев и Василий макет в училище лепили. Сам князь Волконский их похвалил.
– Слава богу, хоть младшие растут не дураками! – сказал граф, и Мария Михайловна мысленно перекрестилась: об Алексее невпопад бы пришлось.
Сказала, чтоб унять забившееся сердце:
– Из Москвы пишут: князь Петр Вяземский 18-го октября венчался с дочерью князя Федора Сергеевичей Гагарина. Вера Федоровна старше мужа на два года. Князь-то Петр молод, восемнадцать всего. Промотал, пишут, богатейшее состояние.
– Зато поумнел. В службу просится, – сказал граф и глянул на портрет отца: Кирилла Григорьевич такое оставил состояние – на пятерых сыновей, на четырех дочерей хватило, и все богаты. Но то счастье Розумов.
У художника
По Неве над полыньями стояли кущи тумана. Кудрявые, цветущие поверху розами – солнце наконец-то пробилось.
Мороз за двадцать градусов, великий князь Константин отменил парад. Вот они и мчались в санках с Невского на Васильевский.
Солнце словно бы взмахивало ресницами, и морозная густая взвесь то вспыхивала сияющими искорками, то мрачно меркла.
– Степан! Степан! Ожги лошадей! – кричал кучеру хозяин санок прапорщик Николай Дурново.
Школу колонновожатых Николай Дмитриевич закончил еще в апреле, с апреля имеет офицерский чин и должность адъютанта управляющего квартирмейстерскою частью Свиты Его Императорского Величества генерал-лейтенанта Волконского.
Дурново вез своих приятелей братьев Перовских к художнику, коему заказал портрет в рост и миниатюру.
Впереди ехали санки с семёновцами. Как же не обогнать лейб-гвардейцев?
Степан постарался, его гнедая пара обошла пару серых возле Академии художеств. И тут Василий закричал:
– Стойте! Стойте! Чаадаевы! Это же Чаадаевы!
– Перовские! – радостно откликнулся Петр.
Остановились, выскочили из санок, обнялись.
– Ба! Вы уже в чинах! – простецки радовался Петр. – С нашим вызовом дело затянулось. Мы только седьмого декабря из Москвы. Да еще в Твери задержались. Профессор Буль теперь служит библиотекарем у великой княгини Екатерины Павловны. Господи! Сколько же люди могут знать! Буль уговаривал нас не идти в военную службу. Но, как видите, мы с Михаилом юнкера. Господин прапорщик! Господа унтер-офицеры!
Перовские представили Чаадаевым Дурново, обменялись адресами, разъехались.
Художник жил на третьем этаже, над деревьями. Они ввалились в прихожую, сбросили шубы.
– У меня сегодня натоплено, – улыбался художник, приглашая молодых людей в мастерскую.
Василий побежал глазами по стенам, по картинам. И будто огнем в лицо! На помосте, задрапированном розовым шелком, стояла, облокотясь рукою на мраморную колонну, совершенно… ну, просто совершенно… обнаженная…
– Моя Афродита! – засмеялся художник, с удовольствием глядя на женщину. Глаза у него блестели. – Вот ведь какие водятся в Обжорном ряду на Васильевском. Поздоровайся с господами, назовись!
Женщина поклонилась:
– Кланей зовут!
И снова приняла прежнюю позу богини.
У Василия пылало лицо, Лев тоже был как пряник розовый. А Дурново хоть бы что! Постоял с художником, любуясь на Кланю, будто она картина. С серьезным, с озабоченным видом принялся рассматривать свой портрет, всё еще недописанный.
– Что скажете? – спросил у братьев.
– Сходство замечательное! – одобрил Лев.
– Рука вроде бы коротка! – обрадовался Василий возможности смотреть на что-то иное.
– А ведь коротка! – удивился Дурново.
– Да… локоть надобно отвести. – Художник картонкою прикрыл руку, лежащую на эфесе палаша. – Отвести локоть и чуть-чуть тронуть запястье. Я поправлю, Николай Дмитриевич. Не выпить ли вина, господа?
– Нам еще в штабе надо быть, – сказал Дурново.
– Тогда кофе. Кланя, подай господам кофе.
Богиня сошла с помоста, облачилась в пушистый белых халат, в мягкие туфли. Василий снова глядел на стены: какие-то парки с развалинами, пруды, на прудах розовые голенькие нимфы. Нева. Зимний дворец. Портреты вельмож…
– Я всё умею! – улыбнулся художник. – В Петербурге надобно всё уметь… Ну что, господа, мы можем поздравить себя с очередной победой над турками? Старец Кутузов на сей раз не подвел.
– Государь недоволен главнокомандующим, – сказал Дурново. – Турки мира не подписывают, а Кутузов, как всегда, чего-то ждет. Государь приказал разорвать перемирие… И вообще Кутузова давно бы заменили, но наш государь не охотник делать людям больно.
– Ах, все-таки надо было подать вина! – посокрушался художник. – Мы подняли бы тост за доброе сердце нашего императора.
Натурщица принесла кофе. Она так близко наклонилась над Василием, что он уловил ноздрями запах ее тела. Так, кажется, само солнце пахнет.
– Я вчера был у Гнедича, – сказал художник. – Он, слава богу, имеет теперь квартиру в библиотеке, на этаж выше Крылова. Светло, просторно и, главное, для голоса хорошо. В иных домах голос глохнет, а в квартире Гнедича вещей немного. Он ведь Семёнову декламации учит. У Семеновой каждое словечко – хрусталь. Поющий хрусталь, господа!
– Не все-то одобряют, что Семенова поет слова, как Жорж, – возразил Дурново. – Говорят, это Гнедич сбил ее с толку. Он ведь распевает свою «Илиаду».
– Госпожа Жорж опять в Париже! – Художник повздыхал. – Бриллиант! Чистой воды бриллиант! Рассказывают: будучи любовницей Наполеона, мадемуазель просила у него портрет. А он кинул ей горсть бриллиантов и среди них несколько золотых монет со своим профилем.
Натурщица снова наклонилась над Василием, забирая пустую чашечку. Он чувствовал ее грудь на плече и не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Такое с ним уже бывало, на кутеже у князя Вяземского, но там кутили, там было много бесстыдниц, а здесь – искусство.
«Господи! Когда же кончится эта мука?»
– Я потерял всякую надежду видеть Семенову, – сказал Лев.
– Перовские – терпение! Ещё немножко терпения. Вы получите офицерский чин если не к Рождеству, так ко дню рождения государя. Между прочим, Державин десять лет тянул солдатскую лямку. Разумеется, лишенный театра и общества.
Пора было в штаб. Завтрашние колонновожатые везли представить начальнику топографического отделения полковнику Пенскому чертежи карт.
С Невы тянуло ветром, мороз обжигал щеки.
– А знаете, – повернулся к братьям Дурново, – мы, конечно, все мечтаем схватиться с Наполеоном, только как же нам хорошо теперь…
Знамение
Год, измотавший нервы, забравший столько сил, наконец-то кончался. Александр, снимая напряжение, писал Екатерине Павловне, жаловался. Отношения с Францией превратились в натянутые до предела струны. Война может грянуть не завтра, не послезавтра, но – в любую минуту. Жизнь собачья. С кровати и за письменный стол. Давно уже нет возможности отобедать – перекусывает наедине, глядя в бумаги.
Отложив перо, Александр прокручивал в голове последние донесения.
Дела у Наполеона прескверные.
Нехватка хлеба во Франции вынудила установить максимум твердых цен и на хлеб, и на прочие продукты питания.
Война в Испании для французов идет несчастливо. Сульт разбит под Кадиксом, Сюше под Арагоном, Массена под Фуенте. В Италии процветает бандитизм. Наполеон был вынужден послать несколько французских полков, чтоб покончить с разбоем хотя бы вокруг Рима. Король Вестфалии Жером прислал брату отчаянное письмо: «Брожение достигло высшей точки; возникают и с воодушевлением обсуждаются самые безумные мечты. Ссылаются на пример Испании, и если война разразится, то все земли между Рейном и Одером станут очагом широкого и мощного восстания…» Жерому вторил генерал Раки: «При первой военной неудаче от Рейна до Сибири все поднимутся против нас». Даже старый лис Фуше осмелился предупредить великого Наполеона: «Государь, я вас умоляю, во имя Франции, во имя Вашей славы, во имя Вашей и нашей безопасности, вложите меч в ножны. Вспомните о Карле XII».
Все говорят умно, говорят правду, но ведь это только подогревает Наполеона. Он не тот, кто забывается в вине, его вино – победы. Победами будет лечить больную свою империю.
Александр вспомнил «откровенный» разговор с иезуитом Жозефом де Местром. Сказал ему главное, надеясь, что именно эти слова дойдут до ушей Наполеона: «Император открыл мне в Эрфурте секрет своих необычайных успехов. Он сказал: “На войне все решает упрямство”. И будьте уверены, я запомнил сей урок».
Невольно подумалось, а кого он, самодержец России, сможет выставить против гения войны… Багратион, Беннигсен, Витгенштейн, Барклай де Толли… Выплывало имя Кутузова, но Александр только морщился.
Барклай де Толли… Умница. Стратег…
Александр помнил свою давнюю встречу с генерал-майором Барклаем. Барклай был ранен под Эйлау, лечился в Мемеле. Александр посетил генерала в госпитале и был очарован откровенностью и глубиною мыслей военного человека. Александр спросил: есть ли надежда победить Наполеона? И услышал правду. Генерал усомнился в возможности разгрома французской армии в одном сражении, если при ней Наполеон. Устоять ценою ужасных потерь можно, но победить, гнать, вынуждать сдаваться в плен…
«Единственное оружие, смертельное для Наполеона, – сказал тогда Барклай, – есть терпеливое, изнуряющее отступление в глубь страны. Чем дальше склады с продовольствием, фуражом и вооружениями, тем уязвимее армия. Вторую Полтаву Наполеону можно устроить где-нибудь на берегах Волги. Ни счастье, ни искусство не помогут полководцу, когда его войска начнут истреблять голод, мороз и болезни».
Александр, расставаясь с Барклаем, наградил его Владимиром II степени, произвел в генерал-лейтенанты.
Однако ж у Барклая среди русских генералов есть противники. Багратион, Кутузов, разумеется, Голицын и этот жуткий правдолюб Остерман-Толстой.
Остерман-Толстой, «переименованный Павлом» из генерал-майоров в статские советники, получил обратно свое генерал-майорство от Александра. Казалось бы… В войнах с Наполеоном являл чудеса храбрости, полководческой интуиции. И оказался главой военной оппозиции после Тильзита.
О, эти русские! В тот самый день, когда Барклай де Толли получил за финский поход генерала от инфантерии и был назначен военным министром, Остерман-Толстой подал в отставку, а свет вспомнил слова Ермолова. В сражении под Черновым, где дивизия Остермана противостояла самому Наполеону и отбила две атаки маршала Даву, Остерман потерял обоз. Но только потому, что арьергард Барклая почти бежал от французов. Тогда Ермолов и сказал: «Бой при Гофе не делает чести генералу Барклаю де Толли». Слова запомнили и повторили.
Итак, Барклай де Толли нехорош для русских, ибо не русский, шотландец, но сами-то чего стоят? Кутузов омерзителен угодливостью. В бытность генерал-губернатором Петербурга, он ни единого раза не возразил. Даже в том случае, когда возражение было весьма необходимо. А несчастье под Аустерлицем? Все говорят: Кутузова не слушали, Кутузова отстранили от командования. Но разве сей главнокомандующий поперечил хоть в чем-то? Возражал, но как? Потом уж выяснилось: гофмаршала графа Толстого подсылал: «Уговорите государя не давать сражения!» На что граф резонно ответил: «Мое дело соусы да жаркое. Война ваше дело».
У Александра разболелась голова, и тут появился флигель-адъютант:
– Ваше Величество, горит театр!
– Это что, подарок к Новому году?! Вот каковы последние часы 1811-го!..