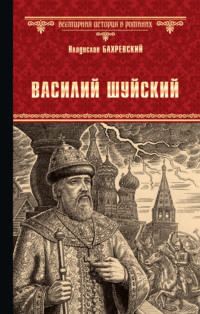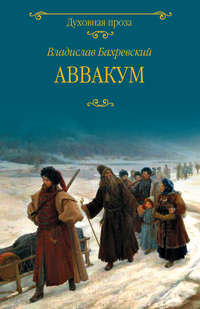Полная версия
Царская карусель. Война с Кутузовым
Оба поспешили перевести беседу на пустое.
– Третьего дня, как у вас принято говорить, я обедал у обер-гофмаршала Александра Львовича Нарышкина, – сказал Армфельд. – Этот гурман достойно возглавил бы первую десятку самых изощренных европейских обжор.
– Но у него и в театре объеденье! – подхватил Александр. – Вы бывали на спектаклях мадемуазель Жорж?
– Как раз вчера! Нежное по виду существо, но какая сила!
– Да, она прекрасна! Во всех своих обликах прекрасна. В облике тигрицы и в облике горлицы. Жорж бесконечна, как Млечный Путь, и вдруг оборачивается скалою, которую обтекает со всех сторон океан, разбиваясь о нее вдребезги и лилея сию неприступность.
– Ваше Величество, знали бы ваши поэты, кто в России среди них первейший!
– Ах, дорогой Густав! Лавры Нерона не по мне. Я благодарю моих учителей, ибо способен, кажется, отличить глубинно прекрасное от фальши пустоты в красивой драпировке.
Беседа была закончена. Армфельд откланялся и вдруг вспомнил:
– Я еще о Сперанском собирался поговорить… Но это в следующую аудиенцию, коли на то будет милость Вашего Величества.
– А что Сперанский? – не отпуская с лица улыбку, спросил Александр.
– Он столь верный поклонник Наполеона…
– Это у него есть, – согласился Александр. – Впрочем, как и у Румянцева, канцлера нашего.
Швед ушел, и работать далее сил уже не было. Александр решил посетить покои императрицы.
Елизавета Алексеевна была за столом, записывала в дневник вчерашний день. Вечером императрица посетила мадемуазель Жорж. У актрисы были самые близкие ценители ее таланта. Генерал Хитрово, князь Гагарин. Играли в лото, а потом Жорж читала.
«Я очень рада, что видела ее в комнате, – записывала Елизавета Алексеевна. – Однако я бесконечно предпочитаю видеть ее на сцене, там полнее иллюзия. В комнате же приходится заставлять свое воображение ставить себя рядом с нею на сцену, и едва только успеешь достичь этого, – как тирада, и ея очарование оканчивается. Эта комнатная декламация, по-моему, является областью тех, кому приятно видеть как можно ближе красивую женщину».
Елизавета Алексеевна перелистнула несколько страниц дневника и перечитала запись начала года: «Жорж заставила меня в конце концов предпочитать всяким иным представлениям трагедию, которая мне до сих пор казалась скучной».
Это было правдой, императрица не пропустила ни единого спектакля, где играла Жорж.
«А что же мне еще остается?» – закрыла дневник, подошла к зеркалу.
Александр ужасен. Он заставил ее лечь в постель к своему другу Чарторыйскому, он поощрял сию интрижку. Он ею наслаждался.
И вот – полное неприятие. Ты была с Чарторыйским, я живу с Нарышкиной. Об этом знают все. Она, императрица, изгнана из постели венчанного супруга.
И вдруг увидела Александра. Он смотрел на нее, отраженную зеркалом. Он оценивал её.
И это так и была. Он оценивал.
Стан словно бы только-только расцветающей женщины, но округлости совершенные, невинность в синеве глаз.
Она чуть вспыхнула, и он увидел главное: страдание на дне этого синего, любящего.
Александр хотел посмешить Елизавету – и забыл приготовленную остроту. Стоял беспомощный, словно его окунули в вину, от которой стыдно, но не тем стыдом, когда жарко вспыхивают щеки, уши. Стыдом причиненной другому боли, ни в чем не повинному.
Сказал ненужное, совсем ненужное в этой комнате:
– Наш Коленкур был принят Наполеоном и, представьте себе, отчитан за уважение к России. Ко мне и к вам.
Скифы и сарматы
Война была далеко. Россия войны не ощущала.
В Москве летала карусель, в Москве проедали состояния… И в Муратове шло веселье без роздыху.
Жуковский ехал через Мишенское – взять нужные книги для работы, но о работе в Холхе и думать было нечего. У Екатерины Афанасьевны гостили Плещеевы, а где Александр Алексеевич, там театр. Певунья Анна Ивановна, родившая супругу шестерых детей, была такая же затейница и выдумщица и, разумеется, прима во всех спектаклях.
Приезду Василия Андреевича обрадовались, но как своему, обычному.
Екатерина Афанасьевна, обнимая брата, ни словом не обмолвилась о «проблеме». Она даже делала вид, что не следит за Машей и Жуковским: коли договорились, будь любезен исполнять обещанное, не то…
Саша в свои шестнадцать красотою затмила и матушку, и легенду семейства Наталью Афанасьевну. Маша, наоборот, будто бы подвяла.
Она охотно включалась в разговоры, она взглядывала на Василия Андреевича, но так, словно тайны между ними не было. Покашливала реже, из ее бледности ушла серая голубизна болезни. Бледность высвечивала глаза.
– Базиль! – потребовал за первым же обедом Плещеев. – Мне нужна пиеса в народном русском духе, и такая, чтоб зритель вместе с занавесом открыл рот, а когда занавес опустится – все равно бы сидел рот разиня…
Василий Андреевич на целый день затворился в Холхе.
Он не мог ни писать, ни читать, не мог ходить, сидеть, жевать.
Повиснуть бы между землей и небом. В столпники бы!
Долго просиживал над материнской вышивкой, читал и перечитывал заповедь:
«В ком честь, в том»… «и правда».
Читал раздельно, первую часть надписи на одной занавеске, и после долгой паузы – вторую, на другой.
Он расплакался уже перед сном.
– Матушка, ну какая же правда в чести? Правда в Машиной груди, правда в моей груди, а сия самая честь – не позволяет нам быть вместе.
Проснулся не как Жуковский – вестник зари, а как истый барин – к обеду. Такое с ним случилось впервой. Сразу сел к столу, и галиматья лилась из него обильно с восторгом, и все же ужасая: такое тоже в тебе уживается, друг ты мой маковый.
К нему пришли на третий день, обеспокоенные. Четверо Плещеевых, Александр Алексеевич, Анна Ивановна и оба старших сына, Алеша и Саша. Пришли Маша и Сашенька, а Екатерину Афанасьевну представлял милейший Григорий Дементьевич, сын крестного Елизаветы Дементьевны – ныне управляющий имениями Екатерины Афанасьевны.
На стук в дверь отворилась форточка, к ногам пришедших пал запечатанный сургучом бумажный пакет. Саша подала пакет Александру Алексеевичу. Тот вскрыл бумагу – цветной сафьян. Развернули сафьян – черный шелк. Развернули шелк – рукопись. На первом листе надпись: «Скачет груздочек по ельничку».
Пьесу разучили за день. Пришли звать автора.
Спектакль. Авации. Ужин во славу драматургического дебюта.
Успех кружит голову. Через неделю артисты слушали читку нового сочинения – «Коловратно-курьезная сцена между господином Леандром, Пальясом и важным господином доктором».
Уморительная пьеса, веселие для всех, вот только у Леандра несчастная любовь.
Блажен, в кого амур – так, как горохом в стену,Без пользы разбросал из тула тучи стрел!О, счастья баловень! коль сладок твой удел!Проснулся – ешь за двух! поел – и засыпаешь.И, сонный, сладкою мечтой себя пленяешь.А в первой пьесе, где сюжет взят из народной песенки: «Скачет груздочек по ельничку».
Ищет груздочек беляночки.Не груздочек то скачет – дворянский сын,Не беляночки ищет – боярышни.На спектакль коловратно-курьезный были приглашены все соседи. Смех, радость, острословье друг перед дружкою, хвалы автору, но из всех самая, самая, самая – счастливые глаза Маши и взгляд, означавший на их языке безмолвия: «Я люблю тебя».
Слушать, что ты – первый поэт нашего времени, первый поэт России, поэт на все времена – стыдно. А тут еще равняли с Бомарше.
Василий Андреевич тихонечко сбежал и укрылся от веселящихся за плотиной, где река, отдавши воды барскому пруду, была воробью по колено, зато золотая, пескариная.
Смотрел на стайки рыбок. Диво-дивное! Переступишь с ноги на ногу, и косячок единым существом стрельнет в сторону и снова через минуту-другую вернется на вкусное для пескариков место. Василий Андреевич пытался посчитать рыбок, но быстро сбивался. Пескари и поодиночке плавали. Значит, понятие «индивидума» у них есть. Почему же в косяке все индивидумы становятся стадом? Солдаты, да и только! Любому вахт-параду на зависть.
Непонятно только, кто команды подает. Как эти команды слышат разом все, и ни единого сбившегося.
Чтоб не пугать рыбок, Василий Андреевич отступил от берега, сел на камень. И тут его спросили:
– Вы наблюдаете жизнь рыб?
Алеша с Сашей.
– Смотрю на реку. Как река бежит, видно, а вот как время течет, никак не углядишь.
– Надо глаза покрепче зажмурить, а потом – рраз!
– Ну и что – р-раз! – передразнил Алеша. – Сашка у нас выдумщик.
– Пожалуй, надо попробовать! – Василий Андреевич посмотрел на Сашу. – И все-таки следы времен нам дано и видеть, и ощущать.
Поманил за собою мальчиков под обрыв. Смотрел под ноги и вдруг нагнулся.
– Закаменелость! – сказал Алеша.
– Отпечаток коралла. Мы живем на дне океана.
Саша встал на колени, перебирал камешек за камешком.
– Вот!
– Отпечаток аммонита. Даже перламутр сохранился. Хорошая находка.
Алеша полез вверх по обрыву.
– Только землю на нас сыплешь! – сердился Саша. Он отыскал осколок окаменевшей гигантской устрицы и два камня с отпечатками кораллов.
Алеша вернулся с нарочито-печальным лицом.
– Ты здесь ищи! – посоветовал Саша.
– А я и там нашел! – На Алешиной ладони лежала каменная пластина, на ней отпечаток какого-то растения.
– Пожалуй, это допотопная лилия! – определил Жуковский. Они сели на траву в тени черемушника. – Наши находки – следы времен несказанно далеких. Все сии печати поставлены природой миллионы лет назад. А вот каких-нибудь десять-двенадцать тысяч в минувшее – наша земля до Дона, до Азовского и Черного моря была заселена ариями. Арии испытали страшное бедствие, оледенение Земли. Отсюда они ушли в Индию.
– А следы найти можно?! – загорелся Саша.
Василий Андреевич улыбнулся:
– Можно. Но не в земле, а в нашей русской речи.
– В словах? – не понял Алеша.
– Язык самый надежный хранитель древностей. Слово «вече».
– Новгородское вече! – обрадовался Алеша. – Я знаю. У новгородцев была воля. У них не было крепостных. Весь народ приходил на вече и решал дела. Все были царями.
– Наш разговор о другом. – Жуковский смотрел на мальчиков с любопытством: Плещеевы воспитывают республиканцев. – Вяч – был богом ариев, богом слова. Значит, не все арии ушли в далекие теплые края. Вече – слово русское. Значит, мы родня ариям.
– Я – арий! – вскочил на ноги Саша.
– А я – скиф! – объявил Алеша.
– Тоже великий и загадочный народ. Народ млекоядец. Скифы питались молоком. Стало быть, не могли быть кровожадными. Скифия простиралась от Сибири и даже от Китая до Черноморского побережья, до Палестины. В Палестине был город Скифополь. Греки очень ценили философа Анахарсиса. А он был скиф.
– А чем были вооружены арии? – спросил Саша.
– Арии владели самым грозным оружием древности: колесницами. У них были копья, луки, топоры, сабли.
– А у скифов? – спросил Алеша.
– Скифы жили в седле. Их главное оружие – небольшой лук, поражавший цель на пятьдесят саженей, и еще акинак. Короткий меч… Сарматы удлиняли свои мечи и после долгого соперничества победили скифов.
– Тогда я буду сарматом! – сказал Алеша.
– Не торопись. Скифы сотни лет владели великими пространствами, а у сарматов история короткая.
– Все равно: я скиф и сармат! – решил Алеша.
– Пошли сражаться? – спросил брата Саша.
– Пошли луки сделаем.
– Только чур! Стрелять не друг в друга, – предупредил Василий Андреевич, – в цель. Я тоже сделаю себе лук. Я буду эфиопом.
Ненавистник Вольтера
Василий Андреевич остался один и в Холхе, и в Муратове. Екатерина Афанасьевна увезла дочерей в Орел. От веселья не было роздыха, теперь от самого себя.
Усаживался за писание «Владимира – Красное Солнышко», но пересказывать стихами былины, летописи Нестора – рука не поднималась. Однако ж привык чувствовать себя тружеником, рабом слова, бес славы подгонял его с пяти утра и до полуночи.
Увы! Вместо великого сочинялась галиматья. Теперь Василий Андреевич писал истинную галиматью, которая должна была затмить «коловратно-курьезное» и скачки груздочка по ельничку. Название новому сочинению дал вполне средневековое: «Елена Ивановна Протасова, или Дружба, нетерпение и капуста. Греческая баллада, переложенная на русские нравы Маремьяном Даниловичем Жуковятниковым, председателем комиссии о построении Муратовского дома, автором тесной конюшни, огнедышащим экс-президентом старого огорода, кавалером ордена Трех печенок и командиром Галиматьи. Второе издание с критическими примечаниями издателя Александра Плещепуновича Чернобрысова, действительного мамелюка и богдыхана, капельмейстера коровьей оспы, привилегированного ральваниста собачьей комедии, издателя типографического описания париков и нежного компониста различных музыкальных чревобесий, между прочим и приложенного здесь нотного завывания. Муратово. 1811 г.».
Писание галиматьи – смех на бумаге – вернул Жуковскому охоту к серьезным занятиям. Переводил «Оберона», коего ждал «Вестник Европы», и еще «Федона». О деньги, деньги!
Обедал Василий Андреевич в доме Григория Дементьевича Голембиевского, сына страстного охотника Дементия, крестного матушки Елизаветы Дементьевны.
Говорили о хлебах, о верности крестьянина народному календарю.
– Наши поселяне мистики, – посмеивался Григорий Дементьевич. – Коли до Флора не отсеешься, флоры родятся. Над барами так даже и смеются, «флоры» для них барское слово. У них закон: сей озимь от Преображенья до Флора, чтобы не было фроловых цветиков. Кто сеет на Фрола, у того фролки и будут.
– «Флор-Лавёр до рабочей лошади добёр», – вспомнил Жуковский присловье.
В крестьянстве была суть жизни, но Василий Андреевич никак не мог найти ту таинственную грань, за которой начиналась жизнь духа народного. Русская жизнь.
Как-то возвращаясь с обеда у Муратовского управляющего, сел под ивами на пруду и услышал песню. Женщина пела. На мостках. Замочила белье, никого вокруг нет, вот и запела:
Как на тихием, теплом заводеНе белая лебедь воскликнула —Расплакалась Авдотья-душаПеред своей же сестрицею…«Господи! – вспомнил вдруг Василий Андреевич. – А ведь Авдотье Петровне Киреевской рожать, наверное, приспело». И дыхание затаил, слушая бабу.
– «Ты, сестрица моя родимая,Выдь-ка ты на ново крыльцо, —звала певунья голосом негромким, но от воды звук отражался и стоял над прудом куполом:
– Посмотри-ко ты во чисто поле.Во чисто поле, в темны леса,Куда моя красота пошла?»У Василия Андреевича от таких слов слезы закипели в груди.
– «Красота пошла в темны леса,В темны леса, в чисто поле,В темным лесу заплутается,В чистом поле загуляется…»Оборвался голос. И Василий Андреевич заплакал. Он не хотел выдать своего присутствия, сидел под ивою не двигаясь, но к бабе подошли с бельем еще бабы, я у них пошла веселая работа вальками.
Кинулся Василий Андреевич домой, достал листы своих планов.
Песнь первая. «Владимир и его двор. Недостает лишь Добрыни и Алеши Поповича. Добрыня послан за мечом-самосеком, златокопытом, водою юности. Алеша прежде отправился на подвиги. Богатыри Чурила, Илия, Рогдай, Громобой, Боян-певец, Святой Антоний…»
Что ж, картины можно нарисовать изумительные! Простор фантазии, богатырской мощи в слове. Все это связать со святыми подвигами основателя Киево-Печерской Лавры, подвигами смирения.
«…Радегаст Новгородский, убийца своей любовницы, мучимый привидениями, и Ярослав, сын Владимиров, печальный, мучимый неизвестною тоскою. Милолика, княжна новгородская, невеста Владимирова, привезенная в Киев Радегастом и Ярославом. Приготовление к празднеству брачному».
Песнь вторая. «Осада Киева Полканом Невредимым. Его стан и его богатыри Змиулан, Тугарин, Зилант. Требование, чтоб Владимир уступил Милолику. Владимир идет советоваться к св. Антонию. Антоний велит отложить празднество брака и говорит, что один только Добрыня может умертвить Полкана. Советы, как укрепить город; жизненного запаса есть на год».
Антоний жил в иную, более позднюю эпоху, но у поэзии свои законы, своя воля.
Третья песнь. «Процессия вокруг Киева; окропляют его святой водой. Он неприступен для войска. Добрыня едет путем-дорогою. История волшебницы Добрады и Черномора. Сон Добрыни. Он въезжает в очарованный лес».
Песнь четвертая. «Очарованное жилище Лицины. Звук арфы спасает его. Он разрушает очарование. Между очарованными находит Илью и его любовницу Зилену».
Песнь пятая. «История Ильи с великаном Карачуном…»
Жуковский отложил листки. В ушах стояла песня полоскальщицы:
«Красота пошла в темны леса…В темным лесу заплутается,В чистом поле загуляется…»Вот она, былина. В десяти словах – былина. И вся-то правда жизни.
«Боже мой, я не то делаю!»
Спрятал планы подальше, открыл папку с Еленою Протасовой, с Жуковятниковым.
Писалось удивительно легко. Еще день – и готово.
Придвинул чистый лист, сочинил на едином вдохе:
Скорей, скорей в дорогу,В Муратово-село.Там счастье завелоКолонию веселья;Там дни быстрей бегутМеж дела и безделья!Пора домой, Екатерина Афанасьевна. Нам без Машиных глаз – жить скучно. Невозможно, Екатерина Афанасьевна!
Отправил письмо, а сам в Долбино.
У Авдотьи Петровны в глазах затаенное счастье. Роды могут начаться, может, через неделю, а может, и через часок всего. Тревожилась! Как не тревожиться! Ласкала пятилетнего Ваню и Петеньку-трехлеточку.
Василий Иванович держался молодцом, был занят делами, но чуть ли не каждые полчаса оказывался возле супруги.
У Авдотьи Петровны в ее двадцать-то два года – это были четвертые роды. Дочь Дарью они потеряли в младенчестве.
Жуковскому Василий Иванович обрадовался. В трудную минуту хорошо иметь возле себя родного человека.
– Съездим к одному поклоннику века просвещения, – предложил Киреевский. – Я у него десять книжек купил. Заодно поглядим овсы.
Овсы – золото с серебром. Сильные.
– Как море, – сказал Жуковский.
– Через недельку надо косить.
У соседа забрали книги – всё это были сочинения Вольтера – но не задержались. Дабы не обидеть хозяина, отведали настоек и наливок да поговорили о турецкой войне.
Поклонник Франции и Наполеона негодовал:
– Выиграть битву и бежать за Дунай – в этом весь Кутузов!
– Я думаю, старому генералу видней, – сказал, помрачнев, Киреевский. – Как всегда снабжают армию кое-как. Театр военных действий огромный, а оставлено Кутузову четыре дивизии из девяти.
– Суворов бил врага малым числом.
– Так ведь и Кутузов надавал визирю тумаков силами вчетверо меньшими.
Сосед ссориться не желал, хватил рюмку за патриотов, с тем и расстались.
В Долбино приехали в самую жару, но, к изумлению Жуковского, Василий Иванович велел затопить печь. И когда дрова разгорелись, бросил в огненную утробу недешево купленные книги. Жуковскому сказал:
– Вольтер – хвост антихриста. У меня для его сочинений – одна дорога.
Поэт никак прийти в себя не мог, и Василий Иванович усадил его на диван, сам поместился напротив, на табуретке.
– Попомни мое слово! В этом году уже поздно. Последний месяц лета. А на следующий год ранехонько по весне Наполеона надо ждать в гости. Наполеон – страшен, а Вольтер – трикратно. Это он родил Франции Робеспьера и Наполеона, России этаких героев не надобно. Я тебе скажу, почему Вольтер опаснее воина: монстры из слова рождаются. Из насмешки над сущим. Сатана-то ведь хохотун. И среди народов так же. Бойся не сурового, бойся – гогочущего.
Поживши денек-другой среди уюта семейного, зажавши в сердце горчайшую обиду на судьбу, покатил Жуковский в Чернь, к Плещеевым. Разучивать новую свою пьесу. Ставить решили в Муратове на день рождения Сашеньки.
Александр Алексеевич сел писать музыку, а Василию Андреевичу пришла мысль: издать газету во славу Сашиного праздника. Придумок было множество, но вывесить газету он решил утром 21 августа, на следующий день после главного праздника, оставивши место для репортажа о торжествах.
Прикатил в Холх, а к нему вестник из Долбина: Авдотья Петровна разрешилась девочкой, имя ей избрано – Мария.
День рождения
Сашенька Протасова родилась 20 августа, в день памяти пророка Самуила, о коем сказано: «И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей». Сашенька, слава богу, никого не судила и в каждый день жизни ждала счастья и была счастлива. Теперь ей исполнялись шестнадцать.
На праздник приехали Плещеевы, приехали Алябьевы, была тетушка Маши и Саши Елена Ивановна Протасова, в честь коей и сочинена новая драма Жуковского.
Плещеевы исполнили оперу собственного сочинения, разумеется, пелось по-французски. Василий Андреевич тоже пел, прочитал «Светлану». Был фейерверк, неудачный, впрочем.
А перед ужином Жуковский представил хозяйке торжества и ее гостям газету «Муратовская вошь».
«Ввечеру сегодня, – сообщал корреспондент, – т. е. 20-е число августа, была иллюминация. Комета прохаживалась по зале и по хорам и светила безденежно! Денежные свечки сияли как рублевые! Огненные фонтаны собирались бить высоко, да раздумали; ракеты ползли окарячь, а учредитель фейерверка плюнул да и прочь пошел».
Мало того, был подробнейшим образом описан обед в тени плодовых деревьев. Печатались здравицы комете Александре, матушке Екатерине Афанасьевне и просто Маше.
За ужином Маша оказалась рядом с Василием Андреевичем. Они несколько раз соединяли руки. Нечаянно, подавая друг другу кушанья или ради того, чтобы обратить внимание на кого-то, на нечто смешное, смеялись.
Во время танцев Екатерина Афанасьевна увела Жуковского на крыльцо.
– Где твои обещания? Ты забываешься.
– Но в чем?
– Не притворяйся!
В нем полыхнула вдруг вся его туретчина:
– Ах ты, боже мой! Как смел ты, раб, ручки коснуться под взорами блюстителей нравственности и целомудреннейшей чистоты! Природной, семейной чистоты и нравственности. Бунинской, Вельяминовской, Юшковской, Протасовской, наконец!
Екатерина Афанасьевна воззрилась на братца с недоумением.
– Ты о чем?
– О чистоте и нравственности твоего семейства и твоей ближайшей родни.
– Ты о чем?! – прикрикнула Екатерина Афанасьевна.
– О сукиных детях. У твоего батюшки, слава богу, я один. Три моих сестрицы померли в младенчестве. Николай Иванович Вельяминов сучьими детишками не обзавелся, а вот сестрица наша Наталья Афанасьевна при живом супруге расстаралась. У нее и Мария Николаевна, и Авдотья Николаевна – сучьи дочки губернатора Кречетникова. И твой Андрей Иванович Протасов своего не упустил. Василия Андреевича да Наталью Андреевну Азбукиных – сукиных детей, сестрицу и брата, не забыла? А Петр Николаевич Юшков? Машенька законная, Аннушка законная, а Сашка – прижитой, сукин сын.
– Ишь как разошелся! – Красивый рот Екатерины Афанасьевны превратился в щель. – Дочери моей тебе не видать, покуда я жива. Дьявол распекает? Кровосмешения жаждешь?
– Господи! Зачем же так? Мы с Машей друг для друга созданы! – Слёзы дрожали в голосе Василия Андреевича, и тут он увидел перед лицом своим, у носа – ослепительно-белый дамский шиш.
Однако ж ему даже оскорбиться не позволили. Екатерина Афанасьевна подхватила несчастного под руку, и уже через мгновение он был в гостиной. Плещеев в костюме факира собирался заглатывать огонь, а супруга его Анна Ивановна заламывала руки и взрыдывала:
– Не губи себя! У тебя же шестеро детей!
Факир был неумолим. Пожрал два огромных факела и, не переставая трещать по-французски и по-латыни, вытряс из своих сапог по золотой монете, а из Сашиных башмачков золото высыпалось по целой горсти. Плещеев и с Жуковского снял башмак, но на пол брякнулся медный грош, в другом башмаке факир даже смотреть не стал. Хохотали до слез, и Василий Андреевич, пользуясь весельем, оказался возле Маши и прошептал:
– Завтра. В пять утра. У пруда.
Праздник кончился за полночь.
Жуковский домой не пошел, сидел, прислонясь спиною к ветле. Августовское небо, как пропасть. Полная луна не в силах высветить его даже около себя. Весь лунный свет стекал на землю. Но земля горчила. Горчила ветла, листвою, корой, горчили высокие бурьяны – лебеда поспела. Горчило поле конопли из низины за запрудою…
– И никакой тайны! – Василий Андреевич смотрел на тень от листьев ветлы. Похоже на большой косяк рыбы.
Луна на воде белым колобом. Ни лунной дорожки, ни серебряной ряби на волнах. Земля устала от чудес за весну, за лето…
– И я устал, – сказал себе Василий Андреевич.
Спохватился. Август: в пять утра темно. Маша, должно быть, не спит, боится проспать. А что он ей скажет – в пять утра? Что?!
На часах три. Поспешил домой. Разделся. Лег. Заснул.
Открыл глаза. Три часа пятнадцать минут. Провалялся в сон. Вскочил. Без двадцати четыре. Оделся. Сел в кресло. Перешел на диван. Заснул. Пробудился в страхе, но боже мой! – стрелка никак не могла одолеть одного круга.