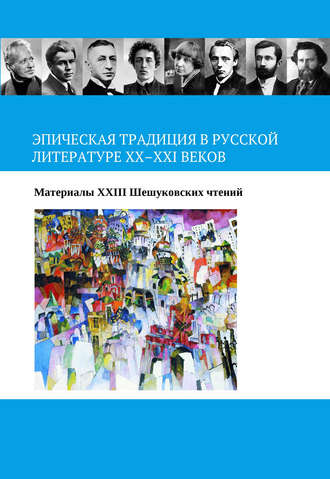 полная версия
полная версияЭпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков
Возвращаясь к проблеме русско-молдавских литературных связей, их интертекстуальности, следует сказать, что горьковский феномен еще раз подтверждает открытость и диалогичность русской литературы, говорит о проблеме взаимопонимания русской и молдавской культур. Произведения Горького становятся мощнейшим диалогическим фактором, существуют в «большом времени» и входят в единое «пространство культуры» (М.М. Бахтин).
Литература1. Богач Г. Горький и молдавский фольклор. – Кишинев: «Картя Молдовеняскэ», 1966. – 234 с.
2. Винницкая А.С. Раннее творчество М. Горького и молдавская поэзия 50-70-х гг. XX в. (к вопросу интертекстуальных связей). Известия Научно-координационного центра по профилю «филология» (ВГПУ – ВОИПКРО). – Выпуск III. – Воронеж: ВЭПИ, 2005. – 334 с.
3. Винницкая А.С. Оппозиция двух пространств в сказке А.М. Горького «О маленькой фее и молодом чабане». Современные процессы межкультурного взаимодействия и языковая практика: Материалы международной научно-практической конференции. – Тирасполь, 20-21 сентября 2005г. – Тирасполь, ПГУ, 2005. – 392 с.
4. Винницкая А.С. Элементы молдавского фольклора в рассказе М. Горького «На Чангуле». Вестник Научно-практической лаборатории по изучению литературного процесса XX века. – Воронеж: ВГПУ, 2008. – Выпуск XII. – 94 с.
5. Винницкая А.С. Восприятие личности и творчества М. Горького на рубеже XX-XXI вв. Вестник Приднестровского государственного университета / Приднестровский гос. ун-т. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2008. Сер.: Гуманитарные науки: № 1 (30), 2008. 192 с.
6. Винницкая А.С. Роман И. Канны «Утро на Днестре» в литературном контексте эпохи. Приднестровское наследие: Материалы IV Международной научно-практической конференции «Культурное наследие в системе духовных ценностей приднестровского общества». – Тирасполь: Центр исследования культурно-исторического и духовного наследия, 2011. – 280 с.
7. Пынзару С.Г. Горький в Молдавии. – Кишинев: «Картя Молдовеняскэ», 1971. – 250 с.
8. Удодов А.Б. Феномен М. Горького как эстетическая реальность: генезис и функционирование (1880-е – начало 1900-х годов). – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 1999. – 268 с.
The Phenomenon of M. Gorky in the Moldavian literature of the XX centuryAbstract. The article deals with the issue “M. Gorky and Moldavian literature of the XX century “. The features of Moldavian folklore influence on the writer’s early work are analyzed, the publication and translation of Gorky’s works in the Moldavian press are covered, the development of Moldavian poetry and Moldavian novel of the 20th century is traced from the perspective of intertextuality of M. Gorky’s works.
Keywords: Gorky phenomenon, national literature, intertextuality, Moldavian folklore, allegory, genre, dialogueness, Bessarabia, Changul.
Информация об авторе: Винницкая Алла Сергеевна, старший преподаватель кафедры литературы филологического факультета Приднестровского Государственного Университета им. Т. Г. Шевченко, г. Тирасполь, Приднестровье.
About the author: Vinnitskaya Alla S., Senior Lecturer, Department of Literature, Faculty of Philology, Pridnestrovian State University T.G. Shevchenko, Tiraspol, Pridnestrovian Moldavian Republic.
Ценностно-антропологический кризис детства в начале XX века и возможные пути его преодоления (на материале литературных произведений И. С. Шмелева «Лето Господне» и М. Горького «Детство»)
А.В. Бабук /Минск, Беларусь/Аннотация. В статье раскрывается сущность кризиса детства, обусловленного антропологическими сдвигами в начале прошлого столетия. Используя методологию синтеза феноменологического, образно-мотивного и нарратологического анализов на материале произведений И. С. Шмелева «Лето Господне» и М. Горького «Детство» показываются особенности проявления этого кризиса и возможные пути его преодоления. Если Шмелев, переживший относительно благополучное детство, используя художественный прием «мир глазами ребенка», показывает способность человека сохранить в себе детскость, то Горький, переживший неблагоприятное воздействие семьи, изображает процесс разрушения мифа детства.
Ключевые слова: миф детства, антропология, кризис, нарратологический, феноменологический, образно-мотивный анализы, методология, человек.
Современная антропология как наука о человеке рассматривает homo sapiens не просто как биосоциальное существо, как это было в классической науке, но принимает во внимание все виды деятельности в единстве всех ипостасей – духа, души и тела. Еще в начале XX века все человечество сталкивается с кризисом, обусловленным разрушением всех уровней антропологических, социальных и религиозных взаимосвязей, с одной стороны и сменой технологического уклада жизни, с другой стороны. Одним из проявлений этого кризиса стала в том числе и деформация института семьи и детства. Вот почему мы считаем, что в своевременном литературоведении целесообразно рассматривать художественное произведение сквозь призму аксиологической (ценностной) антропологии, где в качестве источника выступает христианство как религия, несущая в себе традиционные семейные ценности, в том числе и уподобляемая образу Царства Небесного ценность детства.
Антропологический взгляд на литературу помогает исследовать человека в литературном произведении в культурно-исторической, временной и ценностной перспективе, используя привычные для литературоведения термины – сюжет, мотив, персонаж, хронотоп и т.д. В этом смысле наибольший интерес для исследования представляет использование синтеза феноменологического, образно-мотивного и нарратологического подхода к анализу художественного текста. Принцип феноменологического анализа предполагает взгляд на литературный текст как некий сгусток феноменов, которые при пристальном чтении непредвзято проявляют сами себя. При этом феномены все воплощаются в мотивах и образах (образно-мотивный анализ) как простейших единицах художественного текста, которые в свою очередь передаются посредством текстового нарратива (нарратологический анализ). Особенно актуальным в этом смысле является исследование феномена детства, в том числе и сквозь призму художественного приема «мир глазами ребенка», где предполагается взгляд на ребенка не только снаружи, но и изнутри, затрагивая авторское повествование от первого лица, где в роли нарратора выступает ребенок.
Однако ребенок как особый психологический тип человека возник в мировой литературе не сразу. Вплоть до XVIII века никакого детства как особого периода жизни человека не существовало, поскольку ребенок рассматривался как недочеловек, которому необходимо помочь достигнуть взрослости. Однако в конце XVIII в связи с появлением концепции Дж. Локка о воспитании и теории Ж.-Ж. Руссо о естественном человеке, ребенок становится особым типом человека, о чем также свидетельствует роман «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, где впервые в мировой литературе используется художественный прием «мир глазами ребенка», когда автор повествует о детстве своего героя. Затем в эпоху романтизма в связи с открытием детства как переживания и установлением культа ребенка в литературе оформляется так называемый культурный миф детства, коррелятом которого служит мифологическое представление о Золотом веке. При этом миф здесь примитивно рассматривать как некий вымысел. С нашей точки зрения миф – это культурный код, представляющий собой художественное воплощение (в литературе – в виде мотивов, образов, персонажей) символического единства чувственного образа и рационального начала. Реализация и раскрытие мифа детства в литературном тексте происходит с помощью структурно-семантических компонентов, таких как идеальные образы отца, матери, семьи и дома; идилличность и бесконфликтность детства; чистота, невинность и детскость ребенка; культ естественной природы; мотив утраты детства, аналогичный мифологическому представлению о «потерянном рае». Именно так, на наш взгляд, раскрывается феномен детства в произведениях И. С. Шмелева «Лето Господне» и Максима Горького «Детство», анализу которых и посвящается данная статья.
Эпоха, в которую возникают «Лето Господне» Шмелева и «Детство» Горького характеризуется антропологическим сдвигом, точками бифуркации которых стали трагические события Октябрьской революции 1917 года и последующей Гражданской войны.
Роман Шмелева воспроизводит патриархальный уклад русских купеческих семей Замоскворечья 1870-х годов. История появления «Детства» Горького также связана с тяжелыми революционными потрясениями, которые переживала Россия в начале прошлого века. Однако у Горького в отличие от Шмелева революция была несколько иной, поскольку писатель со временем занял сторону большевиков, связав свою дальнейшую жизнь и миссию в ней с «вооруженным пролетариатом», отстаивая интересы революционеров.
Если принять во внимание определение художественной литературы как «переживание переживания» (В. Тюпа), то и маленький Ваня Шмелев, и Алеша Пешков – это диегетические нарраторы, протагонисты, которые пережили все описанные события еще в детстве и в момент написания текста они снова переживают их экзистенциально и именно поэтому с точки зрения феноменологии возникшее на бумаге детское прошлое переживается писателями не как прошлое, а как непосредственное теперешнее (Р. Ингарден). Кроме того, сам читатель, читающий текст, имеет также свое восприятие сокрытых феноменов в нем. Возможность выявить сокрытие в тексте феномены в момент читательского восприятия текста помогает упомянутая нами ранее феноменологическая установка как один из видов анализа художественного текста.
Структурно-семантические компоненты, составляющий идеальные образы отца матери и дома играют ключевую роль в реализации мифа детства в данных произведениях. Современные психологи, в частности В. С. Мухина, пишут о том, что важное место в детской жизни каждого ребенка имеет общение со взрослым, поскольку, прежде всего, под их влиянием формируется внутренний мир ребенка [5, с. 171]. Такими важными фигурами взрослых для Вани у Шмелева являются образ отца Сергея Ивановича и плотника Горкина, а для Алеши Пешкова – мать, а также бабушка и дедушка Каширины.
Отец в романе «Лето Господне» представлен в образе человека, который в глазах маленького Вани имеет непоколебимый авторитет. Это связано в первую очередь с тем, что в русской семье до 1917 года господствовал патриархальный уклад, который как раз и показан в романе на примере купеческой семьи Шмелевых. Отец в такой семье был не только источником пропитания, но и создателем, а также проводником ценностей в семье, которые формировали его ответственность за всех членов семьи. Осознавал мужчина эту ответственность и принимал ее от самого Бога по принципу иерархии. Как замечает Л. Зойя, в то время отец «почти никогда не терял уважения детей: он держал ответ перед Богом, и только Бог мог лишить его уважения» [4, с. 243]. Это онтологическое осознание мужчиной своей ответственности за семью показано в различных формах и моделях поведениях Сергея Ивановича, таких как, например, в процессе подготовки к празднованию праздника Пасхи, когда «отец надевает летний пиджак и начинает оправлять лампадки» и затем «ходит с ними по комнатам и напевает вполголоса: «Воскресение Твое Христе Спасе… Ангели поют на небеси…» [7, с. 59]. В такой момент маленький Ваня пристраивается рядом с отцом, будто чувствуя близость самого Бога: «И я хожу с ним. На душе у меня радостное и тихое, и хочется отчего-то плакать» [7, с. 59].
Первые строки «Детства» М. Горького свидетельствует о том, что присутствие отца в жизни Алексея Пешкова было чисто номинальным, поскольку он умер, когда Пешкову исполнилось только три года, и родители не давали проявиться эмоциям ребенка, запрещая ему плакать даже на могиле отца.
Мать маленького Пешкова воспитанием ребенка практически не занималась, поскольку, считала, что сын заразил ее мужа холерой, отчего тот и скончался. По выражению самого писателя «она была всегда строгая, говорила мало» [3 Т. 13, с. 10], вела себя достаточно отстраненно, редко вступала в коммуникативное взаимодействие, что существенно отдаляло ее от своего сына. В результате такого редуцирования мать в детском мифологическом сознании возводится на высокий пьедестал и становится недостижимым образом для ребенка. Именно так и происходило в детстве Горького, о чем автор сам показывает в своем нарративе от лица-героя-ребенка: То, что мать не хочет жить в своей семье, все выше поднимает ее в моих мечтах; мне кажется, что она живет на постоялом дворе при большой дороге, у разбойников, которые грабят проезжих богачей и делят награбленное с нищими [3 Т. 13, с. 77]. Би Х. в своем исследовании по развитию ребенка отмечает, что в семьях, где мать находится в депрессии и озабочена проблемами своей жизни, наблюдается пренебрегающий стиль общения детей с родителями, что в дальнейшем пагубно влияет на детский онтогенез [1, с. 580]. Это как раз и можно наблюдать на примере горьковской повести «Детство», где герой-нарратор оказался, по сути сиротой в семье.
Отношения с матерью у маленького Вани, как и у Алексея Пешкова не сложились. Именно поэтому присутствие матери в романе очень ограничено и никак не обозначено. Н.М. Солнцева пишет, что это связано с тем, что мать была по натуре довольно жестким, даже жестокосердым человеком и имела обыкновение пороть Шмелева в детстве. Материнская порка доходила до того, что, возвращаясь домой из гимназии, Иван заходил в Свято-Никольскую часовню и жертвовал копейку, молясь и прося святого угодника Николая о том, чтобы его меньше пороли. А дома Иван об этом же молился перед образом Казанской иконы Божией Матери. Порки эти прекратились только в четвертом классе, когда Иван во время очередных материнских побоев схватил хлебный нож [6, с. 15].
Единственным образом мужчины, которому горьковский герой-ребенок мог подражать в своей жизни, оказался дед Василий Каширин. Отношения маленького Пешкова с дедом Василием были достаточно сложными из-за религиозного принуждения, который дед оказывал на внука. Мальчик, как напишет Горький в одной из своих работ, «очень не любил ходить в церковь с дедом», поскольку тот заставлял внука «кланяться, всегда и очень больно толкал в шею» [3 Т. 1, с. 72]. Он также заставил Алексея выучить молитву «Отче наш», читать Псалтырь и т.д. Но все это учение было лишено любви, поскольку сочеталось с единственно действенным воспитательным на мальчиков методом, по мнению деда, – поркой. Это проявлялось даже в том, каких святых почитал дед Каширин. Дедовы святые, по словам писателя, «были почти все мученики, они свергали идолов, спорили с римскими царями, и за это их пытали, жгли, сдирали с них кожу» [3 Т. 13, с. 88]. Суровость и жестокость были главными характеристиками Бога, которого представлял дед Каширин в глазах Алеши Пешкова. Жестокость и формальная религиозность деда привели постепенно к тому, что в конечном счете вместо желания богосозерцания и богообщения Алеше Пешкову было привито отвращение ко всякой религии, что подтверждается тем, что однажды герой в святцах «принялся отстригать святым головы» [3 Т. 13, с. 133].
Если в жизни ребенка представление об одном из родителей ассоциируется с образом деспота и тирана, то локус ориентации детского сознания перемещается в сторону того человека, чей образ для него является наиболее приемлемым с духовно-нравственной позиции. Именно так произошло у Шмелева, в жизни которого духовным отцом и другом был старый плотник Михаил Панкратович Горкин.
Этот простой не отличающийся ученостью человек оказался одарен редким боголюбием и не по годам развитой мудростью. Как пишет Шмелев, он «все почему-то знает» [7 Т. 4, с. 88] лучше любого городского ученого мужа, смел и бесстрашен, но тверд и суров. В нем нет хитрости горожанина, а его принадлежность к сельскому крестьянству позволила сохранить детскую непосредственность, располагающую сознание ближе к природе, а значит и к Богу, которого Горкин любит всем своим сердцем. Часто используя церковнославянский язык и сельское просторечие Горкин становится носителем древнерусской книжной, а также бытовой культуры, которая в последствие была утрачена в результате революционных потрясений 1917 года. Именно этим Горкин сильно выделяется среди других героев:
«– И пеш прошел бы, беспокойство такое доставляю. И за чего мне такая ласка!…» [Т. 4, с. 214].
У Алексея Пешкова наибольшим авторитетом пользовалась бабушка Акулина Каширина. В отличие от деда Василия Каширина бабушка Акулина имела религиозность не формальную, а осознанную, о чем свидетельствуют не только ее частые молитвы и прошения Бога за семью, но и ее беседы с внуком на духовные темы, в которых она пыталась передать дух своих женских религиозных ощущений внуку и как могла истолковывала библейские истины. «Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать, – стыдно», – пишет Горький. «Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога, и, кажется, даже не возникало желания скрывать.» [3 Т. 13, с. 83]. Бабушка Акулина оказалась единственным человеком, обладающим высоким уровнем приватности в картине мира Алексея, поэтому только с ней он мог делиться своими чувствами, страхами, сомнениями и переживаниями. Так в глазах Алеши бабушка Акулина стала земным покровителем всей семьи. На наш взгляд в образе бабушки Акулины Горький воплотил детский образ рая, соотносимый со знаменитой мифологемой о Золотом веке, характерный для русской словесности в целом.
Однако одних добрых интенций бабушки Акулины оказалось недостаточно для изменения состояния души Алексея Пешкова. Отсутствие любви, пренебрегающий стиль общения со взрослыми в семье и воспитание в духе формальной религиозности раздвоили сознание героя, ввергнув в уныние и доведя уже взрослого писателя до отчаяния, заставив поверить в сверхчеловека (внешне схожий с Ф. Ницше М. Горький хорошо был знаком с учением немецкого философа о «сверхчеловеке», хотя свое пристрастие к нему отрицал). Будучи человеком очень талантливым, но до конца не понявшим своего собственного жизненного предназначения, сознание отвергнутого жизнью человека позволило проявиться порывам жестокости и развиться суицидальным помыслам, позволившим, в конце концов как пишет Ю. Ю. Воробьевский, Горькому выстрелить в Пешкова, в результате чего произошел окончательный онтологический разрыв Горького с Богом и церковью.
Показанная же Шмелевым в романе «Лето Господне» детская непосредственность постепенно становится идилличной, поскольку герой-ребенок воспринимает образы святых и самого Бога не феноменологически, т.е. посредством чего-либо (в данном случае посредством икон и располагающей церковной обстановки), а онтологически, превращая религиозный миф посредством детского осознания в саму действительность, делая его частью райского состояния, т.е. детскости. К сохранению этого состояния, на наш взгляд, как раз и стремится взрослый писатель И С. Шмелев, погружая себя и свое сознание в детство дореволюционной России и соединяя, таким образом, небо с землей: «Не помню, снились ли ангелы. Но до сего дня живо во мне нетленное: и колыханье, и блеск, и звон, – Праздники и Святые, в воздухе надо мной, – н е б о, коснувшееся меня» [7, с. 177]. В современном литературоведении такое внутреннее изменение личности получило название категории преображения.
Высокая степень отверженности в детстве в сочетании с жестокой и формальной религиозностью рождает в Горьком феномен раздвоения личности, как бы подтверждая тезис К. Г. Юнга о том, что сформированный в человеке жестокостью и равнодушием взрослых бессознательный персонифицированный образ мира провоцирует невроз [8, c. 204], развитие которого в конечном счете свидетельствует о бесовской одержимости писателя. Так наличествующий в «Детстве» Горького деструктивный образ отца, матери и дома свидетельствует об антропологическом кризисе как в жизни героя-ребенка, так и самого художника слова. Кризис этот писатель так и не смог преодолеть, что послужило явной предпосылкой для дальнейшего развития романтизации революции в его творчестве.
Если возврат в детство купеческой России в романе «Лето Господне» Шмелева является своего рода показателем внутреннего преображения и веры писателя в торжество ценности детства даже в тяжелое время революционной смуты, то возникшее вследствие отверженности и жестокости раздвоение личности героя Горького в произведении «Детство», подтолкнувшее в конце концов к восхвалению автором большевистской революции, является явным показателем непреодолимости ценностно-антропологического кризиса и разрушении мифа детства в творчестве писателя.
Литература1. Би Х. Развитие ребенка. – 9-е изд. – СПб. И др. : Питер : Питер принт, 2004. – 767 с.
2. Воробьевский Ю. Ю. Иудиада. – М., 2010. – 304 с.
3. Горький М. Собр. соч. в 30-т. – М. : Гос. изд. худ. литры. – 1952–1955.
4. Зойя Л. Отец: исторический, психологический и культурологический анализ; пер. с англ. Н. Ретеюм ; Моск. ассоц. аналитич. психолог. – Москва : URSS : Либроком, – 2013. – 277 c.
5. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учебник. – 4-е изд., стер. – Москва : Academia, 1999. – 453 с.
6. Солнцева Н.М. Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание. – М. : Эллис Лак, 2007. – 512 с.
7. Шмелев И. С. Богомолье: Романы. Рассказы // Собр. соч. в 5 т. – М.: Русская книга, 1998. –Т. 4 – 560 с.
8. Юнг К. Г. Конфликты детской души. – Москва : Канон+, 2014. – 333 с.
Axiological and anthropological crisis of the childhood at the beginning of the 21st century and its possible waysout (based in the material of “Detstvo” written M. Gorky and “Leto Gospodne” written by I. Shmelev)Abstract. This article reveals the sense of childhood crisis, rode by anthropological replacements at the beginning of last century. The peculiarities of childhood crisis manifestation and possible ways of its overcoming are shown using the synthesis methodology of phenomenological, image and motive, narratological analyses on the material of “Leto Gospodne”, written by I. Shmelev and “Detstvo”, written by M. Gorky. If Shmelev experienced related happy childhood shows man’s ability to save childness in his mind, when Gorky experienced unhappy influential childhood shows the process of myth of the childhood destruction.
Key words: myth of the childhood, anthropology, crisis, narratological, phenomenological, image and motive analyses, methodology, human.
Сведения об авторе: Бабук Александр Владимирович, кандидат филологических наук, старший преподаватель Белорусского государственного университета.
Information about author: Babuk Alexander V, candidate of philological sciences, Minsk state university.
Русская классическая литература в профессиональном становлении журналиста: традиции и современные проблемы
Е.О. Матвеева /Москва/Аннотация. Статья посвящена современной специфике преподавания отечественной классической литературы будущим сотрудникам средств массовой информации. Проблематика статьи обусловлена явным снижением интереса студенческой молодёжи к произведениям искусства слова. Особое внимание уделяется межпредметным связям, позволяющим актуализировать темы, образы и сюжеты русской классики.
Ключевые слова: классическая литература, медиатекст, медиаобразование, журналистика, профессиональные компетенции.
Начало третьего тысячелетия ознаменовано колоссальным цивилизационным прогрессом, связанным с небывалым доныне развитием средств массовой информации и их огромным влиянием на жизнь каждого человека: разнообразные гаджеты и возможность мгновенного доступа к информации, сотни телевизионных каналов и печатных изданий, рассчитанных на разнообразный вкус, наконец, сеть Интернет, весьма существенно влияющая на характер коммуникации,– все это несомненно сказывается на социальной психологии, на формировании экзистенциальных ценностей, определяющих жизнь человека и, разумеется, на языковой культуре личности и общества. Анализируя взаимосвязь языка и культуры, В. А. Маслова справедливо отмечает: «Язык и культура – это движение в одну сторону. Хотя находятся они в сложных взаимоотношениях. Поскольку язык отображает мир, а культура есть неотъемлемый компонент этого мира, то язык – «зеркало культуры»» [2, с. 147].
Закономерно, что понятие «медиатекст» стало сегодня одним из центральных в лингвокультурологических и социолингвистических исследованиях, исторически обусловлено появление и динамичное развитие новой отрасли науки о языке – «Лингвокультурологии медиатекста», ведь в наши дни само понятие «медийность» затрагивает все стороны социального бытия: от профессионального образования до возможности широкого общения в социальных сетях и самореализации в рамках гражданской журналистики. Можно сказать, что «дивный новый мир», представлявшийся авторам минувших десятилетий весьма далекой и туманной перспективой человечества, уже наступил, он властно диктует свои законы, определяя принципы миропорядка, формируя ценности и стереотипы, влияя на динамику развития СМИ, наконец, на профессию журналиста, казалось бы, достаточно традиционную, но стремительно эволюционирующую в 21 веке.









