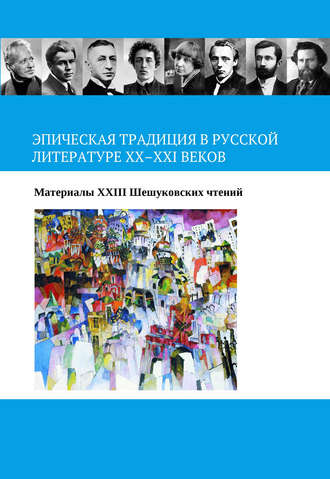 полная версия
полная версияЭпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков
В любом случае очевидно, вне зависимости, от идейных предпочтений, что оценки творчества русских писателей советского периода неотделимы от особенностей политической ситуации. И наиболее заметно это в отношении крупнейших писателей этого времени – М. А. Шолохова и М. А. Булгакова [8], А. П. Платонова и А. Н. Толстого, анализ творчества которых неразрывно связан с историко-культурными реалиями времени.
Исторические реалии и эстетические особенности художественного мира Шолохова многократно становились предметом научного анализа. На сегодняшний день насчитывается более сотни только кандидатских и докторских диссертаций, исследующих художественное наследие писателя. И это число продолжает расти. Причина – в значимости творческих исканий Шолохова, в их актуальности для уже нескольких поколений читателей и литературоведов. Если попытаться сгруппировать научные труды, книги и диссертации, исследующие творчество Шолохова, то их можно будет подразделить на несколько групп. Во-первых, это исследования, посвящённые языковой специфике шолоховской прозы. Во-вторых, диссертации, рассматривавшие прозу Шолохова под углом отражения в ней социально-классовых реалий революции, гражданской войны, коллективизации, Великой Отечественной войны. В-третьих, исследования, посвящённые жанровым и стилевым чертам прозы Шолохова. В-четвёртых, труды тех авторов (Е. А. Костина, А. М. Минаковой и др.), которые изучают творчество Шолохова с точки зрения отражения в нём философско-эстетических идей начала XX века. В-пятых, это синкретичные работы, всесторонне рассматривающие творчество Шолохова в соотношении с другими писателями, в том числе и с точки зрения наличия универсалий.
Однако если рассмотреть историю изучения шолоховской эпики в динамике, то можно выделить несколько периодов, для каждого из которых будут характерны свои особенности. Ещё в 1987 году С.Н.Семанов выделил три периода в изучении «Тихого Дона»: «Первый совпадает со временем публикации романа и с её окончанием, оказавшимся столь неожиданным для многих (1928–1941 гг.)» [11. С. 221]. Второй – 1942– 1956 гг.: первые монографические работы, обсуждение темы на уровне последних предвоенных лет, время внесения бесцеремонных правок (самый известный пример – издание «Тихого Дона» под редакцией К. Потапова). Третий период – с 1957 года до 1987 г., наиболее плодотворный период, по мнению Семанова, с поступательным движением.
Периодизация С.Н. Семанова привязана как к вехам творческой биографии писателя, так и к этапам отечественной истории. Поэтому целесообразно было бы её сохранить, дополнив ещё двумя – четвёртым, с конца 80-х годов и по начало 2000-х годов, и пятым – с 2010-х гг. и по настоящее время. Наверное, в определении периодов следовало бы уйти от излишней точности, до года, сосредоточив внимание на их содержательной насыщенности. В этом случае четвёртый период ознаменован спорами вокруг авторства «Тихого Дона», завершается с обретением рукописей «Тихого Дона» и началом их научного изучения, пятый – постепенным обессмысливанием любой полемики вокруг версии о плагиате и сосредоточении внимания на мифопоэтических особенностях прозы Шолохова и на текстологии «Тихого Дона».
То, что условно определено, как четвёртый период в изучении М. А. Шолохова, характеризуется резким возрастанием публицистики, в основном сосредоточенной вокруг «проблемы авторства» «Тихого Дона». Широкая палитра мнений и подходов представлена в работе Ф. Ф. Кузнецова [6]. Характер критической литературы о Шолохове, «доказывавшей», что «Тихий Дон» был написан не Шолоховым, а также контекст, в котором она создавалась очень хорошо иллюстрирует статья З. Б. Томашевской [12], в которой приводятся воспоминания дочери Томашевских, основанные на некритично воспринятой и воспроизведённой информации. Данный период завершается с началом публикаций первых результатов исследования рукописей «Тихого Дона», появлением и переизданием целого ряда источниковедческих работ, в том числе и по вопросу о рецепции шолоховского творчества в Русском зарубежье [1].
Пятый период открылся исследованиями рукописей «Тихого Дона», публикацией трудов, посвящённых мифопоэтике Шолохова. Разумеется, истоки данного подхода относятся к середине столетия, в 80-х – 90-х гг. он был представлен исследованиями Г.С. Ермолаева, В.В. Кожинова, П.В. Палиевского, С.Г. Семёновой, Е. А. Костина и др. [2, 4, 5, 8 и др.] В настоящее время именно эта линия (проза Шолохова – часть литературного процесса XX столетия, истоки шолоховского эпоса прежде всего в тысячелетней народной культуре, творчество писателя – удивительный по ценности материал для изучения народно-православной мифологии) и становится доминантой научного поиска в современном шолоховедении. Знаковым для пятого периода становится появление работ, авторы которых фактически признают полную бессмысленность исследований «авторства» «Тихого Дона». Например, работа бывшего юриста А. А. Рыбалкина [9]. Показательно, что автором исследования выступает не литературовед, использующий метод дедукции для поиска автора «Тихого Дона». Множество фактологических ошибок, допущенных писателем в третьей части «Тихого Дона» (во второй книге) при изображении военных действий в 1914 году и обнаруженных автором статьи [9. С. 114–125], приводят его к выводу о полной мешанине и несоответствии, основанных, «прежде всего, на авторском воображении и чьих-то отрывочных воспоминаниях» [9. С. 125]. На основе проведённого исследования, автор, юрист, бывший следователь, делает вывод о том, что автором романа был человек, не участвовавший в Первой мировой войне, никогда не бывавший в местах, где происходили описываемые им события (Галиция, Польша, Волынская и Сувалковская губернии), «поверхностно знакомый с деталями офицерской службы и быта», полагавшегося в реконструкции описываемых событий на «немногочисленные печатные источники своего времени и устные воспоминания очевидцев», причём «очевидцев из рядового и низшего командного состава» [9. С. 130]. На основании всего этого автор отвергает и Ф. Крюкова, и В. Краснушкина, «участников Первой мировой войны и современников описываемых событий» [9. С. 131]. И при сопоставлении с Ф. Крюковым и В. Краснушкиным утверждает: «Этот человек – Михаил Шолохов» [9. С. 131].
Симптоматично, и то, что всё больше явных недоброжелателей М. А. Шолохова, стремящихся везде и всюду подчеркнуть его реакционность, начинают уходить от вопроса «авторства», ограничиваясь резкими полемическими замечаниями в адрес М. А. Шолохова, большинство которых на уровне воспоминаний вышеупомянутой З. Б. Томашевской.
Так, Л. И. Сараскина [10] в биографии Солженицына воспроизводит штампы-характеристики, сформировавшиеся в либеральном обществе: «Взгляды Шолохова середины шестидесятых были известны, поступки – тем более. [10. С. 554]. «А в Москве перешёптывались, будто Шолохов, когда ездил получать Нобелевскую премию, на вопрос о Солженицыне ответил: Солженицын? Он мемуарист; не всякая мемуарная литература может считаться литературой» [10. С. 560].
В 2015 году в Р. Медведев, когда-то поддержавший версию о плагиате, а затем от неё отказавшийся, подвёл своеобразный итог удельному весу исследований об «авторстве Шолохова». В работе ««Тихий Дон» Шолохова. Загадки и открытия великого романа» [7. С. 269–443] лишь один параграф первой главы посвящён шолоховедам и антишолоховедам, и только одна глава – проблеме авторства «Тихого Дона». Это притом, что книга состоит из восьми глав. Более же восьмидесяти процентов от общего объёма книги посвящено историческим и художественным особенностям романа – любви, природе, войне и смерти, стилю и поэтике и т. д.
Ещё одним знаковым событием стало издание научного академического издания «Тихого Дона» [13, 14], с которым открывается новая страница в комментировании шолоховских произведений и эпохи их написания.
Первая треть двадцать первого столетия ознаменована серьёзными сдвигами в изучении шолоховской эпики. Уходит на периферию и в откровенно маргинальную сферу всё, что связано с «вопросом об авторстве» шолоховских текстов, на первое место выдвигаются проблемы изучения историко-литературного контекста, а также «универсального» в художественном мире М. А. Шолохова. Проза М. А. Шолохова, в том числе и история её восприятия и изучения, является уникальным свидетельством о всей советской эпохе. Также очевидно, из века XXI, в том числе и на основе погружения в мифопоэтику М. А. Шолохова, что универсальное становится необычайно рельефным и специфичным в те периоды и эпохи, когда в судьбах наций происходят мощные тектонические сдвиги. Именно в опыте русской литературы XX века это свойство сказалось весьма наглядно, ярко и красноречиво. Историческая отзывчивость русской литературы способствовала её насыщению содержанием всемирной и сверхэпохальной значимости. Эпика М. А. Шолохова – тому зримое подтверждение.
Литература1. Васильев В.В. Шолохов и русское зарубежье. – М.: Алгоритм, 2003. – 447 с.
2. Ермолаев Г.С. Михаил Шолохов и его творчество. – СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2000. – 448 с.
3. История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи /Под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 792 с.
4. Кожинов В.В. Размышления об искусстве, литературе и истории. – М.: «Согласие», 2001. – 816 с.
5. Костин Е. А. Философия и эстетика русской литературы. – Вильнюс: ВАГА, 2010. – 432 с.
6. Кузнецов Ф.Ф. «Тихий Дон»: судьба и правда великого романа. – М.: ИМЛИ РАН, 2005. – 864 с.
7. Медведев Ж. А., Медведев Р. А. Нобелевские лауреаты России. – М.: Время, 2015. – 448 с. – (Собрание сочинений Жореса и Роя Медведевых).
8. Палиевский П.В. Шолохов и Булгаков. – М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 1999. – 142 с.
9. Рыбалкин А. А. Неточности и ошибки «Тихого Дона» // Вопросы литературы, 2012. – № 4. – С. 114–131.
10. Сараскина Л.И. Александр Солженицын. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 935 [9] с.
11. Семанов С.Н. В мире «Тихого Дона». – М.: Современник, 1987. – 253 с.
12. Томашевская З. Б. Как и зачем писалось «Стремя». Послесловие ко второму изданию // Медведева И. (Д) Стремя «Тихого Дона» (Загадки романа). – М.: Горизонт, 1993. – 128 с. Второе издание. – С. 121 – 126.
13. Шолохов М. А. Тихий Дон. Научное издание: В 2-х т. – Том 1-й: 1-я и 2-я книги романа. – М.: ИМЛИ РАН, 2018. – 816 с.
14. Шолохов М. А. Тихий Дон. Научное издание: В 2-х т. – Том 2-й: 3-я и 4-я книги романа. – М.: ИМЛИ РАН, 2018. – 864 с.
Epika by M. A. Sholokhov in the modern world: basic approaches to studyingAbstract: The article presents a brief overview of the approaches to the study of the art of M. A. Sholokhov at the beginning of the XXI century, identifies the main directions for the study of the epics of M. A. Sholokhov. The author makes a conclusion about the exhaustion of the direction associated with the attribute of Sholokhov texts, about the development of the mythopoetic and contextual reading of the works of M. A. Sholokhov.
Key words: russian literature of the XX-th century, the works of M. A. Sholokhov, the study of the Sholokhov epic.
Сведения об авторе: Поль Дмитрий Владимирович – профессор кафедры русской литературы МПГУ, доктор филологических наук, профессор.
Information about author: Pole Dmitry Vladimirovich – professor, Department of Russian literature, Moscow Pedagogical State University, doctor of philological sciences, professor.
Феномен М. Горького в молдавской литературе XX века
А.С. Винницкая /Тирасполь, Приднестровье/Аннотация. В статье рассматривается проблема «М. Горький и молдавская литература XX века». Анализируются особенности влияния молдавского фольклора на раннее творчество писателя, освещаются вопросы публикации и переводов горьковских произведений в молдавской печати, прослеживается развитие молдавской поэзии и молдавского романа XX века с позиции интертекстуальности произведений М. Горького.
Ключевые слова: горьковский феномен, национальные литературы, интертекстуальность, молдавский фольклор, аллегория, жанр, диалогичность, Бессарабия, Чангул.
Вопрос восприятия личности и творчества Максима Горького в молдавской литературе XX века является одной из составляющих такой важной проблемы, как «М. Горький и национальные литературы», которая определяет одну из сторон «феномена М. Горького» и позволяет говорить о так называемой «жизни в веках». Художественный мир Горького – явление многомерное, но не статичное, это мир постоянного внутреннего поиска, отвергающего однозначную закономерность универсального объяснения мира и человека.
В свете общеизвестных причин 90-х годов проблема «М. Горький и молдавская литература» может показаться не актуальной. Однако такая точка зрения кажется неправомерной, так как творчество Максима Горького в наши дни изучается до сих пор как в школах Молдовы, как и в школах Приднестровья, хотя часто носит дискуссионный характер.
Функционирование горьковского наследия соединяет три столетия – от начала XIX до XXI века. Молдавские реалии во многом повлияли на характер и темы раннего творчества писателя, что отметил еще современник М. Горького, В. Десницкий. Позднее молдавский исследователь Б. Трубецкой также подчеркнул, что раннее творчество Горького теснейшим образом связано с Бессарабией, с жизнью, бытом и искусством молдавского народа. Итак, проблема «М. Горький и молдавская литература» представляется в нескольких аспектах: первый (вышеизложенный) – пребывание Горького в Молдавии и проблема влияния молдавского фольклора на творчество писателя. Второй – влияние произведений самого Горького на молдавскую литературу, ведь, по словам Ю. Кристевой, «любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста».
Третий аспект – это молдавские переводы М. Горького, история которых насчитывает свыше ста лет. С.Пынзару приводит такие характерные цифры. «Песня о Буревестнике» переводилась и издавалась более 10 раз, «Песня о Соколе» – 7 раз, «Старуха Изергиль» – 8 раз, «Челкаш» – 6 раз, «Двадцать шесть и одна» – 4 раза, «Детство» – 5 раз, «Мать» – 3 раза и т.д.
Если говорить об истории вопроса, то начало изучения данной проблемы положил ещё Н. Пиксанов в 30-е годы в работе «Горький и национальные литературы». В молдавском литературоведении этот вопрос разрабатывалась Б. Трубецким, В. Коробаном, Б. Челышевым и другими. Особо выделяются монографии Г. Богача «Горький и молдавский фольклор» (1966) и С. Пынзару «Горький в Молдавии» (1971). После 80-х годов, по понятным причинам, эта проблема не разрабатывалась, поэтому достаточно интересным оказалось учесть и синтезировать достаточно обширный опыт молдавских советских литературоведов, пересмотрев их с позиции сегодняшнего времени, отбрасывая в сторону излишнюю идеологизированность и предвзятость.
Если взглянуть с позиции ретроспективного оценочного суждения на всё, что было аккумулировано в молдавском горьковедении, можно заметить, что проблема «М. Горький и молдавская литература» в свете интертекстуальных связей имеет научную перспективу как в процессе изучения творчества Горького в школе (с позиции литературного краеведения), так и в дальнейшем осмыслении и переработке его произведений в современной молдавской литературе.
В работе молдавского литературоведа Г. Богача устанавливаются возможные фольклорные источники ряда ранних произведений М. Горького, на молдавское происхождение которых указывал сам автор. Ученый прослеживает направление, в котором писатель преобразовал свои первоначальные впечатления, и пытается установить некоторые черты психологии раннего творчества Горького.
Наиболее изучена молдавскими литературоведами в XX веке проблема использования Горьким молдавского фольклора. Из своих путешествий по Бессарабии вынес М. Горький и знаменитую легенду о горящем сердце Данко. «Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу».
Горький не просто записал легенду слово в слово, а переработал ее, руководствуясь художественным чутьём и фантазией. Местный фольклор интересовал писателя как материал, опоэтизированный народом. И горьковские легенды, сказания, песни – это не прямое использование устного народного творчества, а качественно новая её переработка.
Стало уже общим местом отсылать источники рассказа «Старуха Изергиль» (образ Данко) к традициям молдавского фольклора. В этом плане кажется более продуктивным рассказ М. Горького «На Чангуле», где передана не столько народная этимология молдавских слов и художественных образов, сколько показана специфическая особенность молдавской народной поэзии с ее характерно выраженной «жгучей тоской по счастью».
С позиции современности некоторые положения монографии Г. Богача «Горький и молдавский фольклор» полемичны и подлежат пересмотру. Литературовед А. Б. Удодов, исследуя процессы личностно-творческого становления писательского феномена Горького в монографии, выпущенной в 1999 году, опровергает традиционно повторяемую формулу о «романтической символике» природы в сказке «О маленькой фее и молодом чабане» Горького и подчеркивает «смыслопорождающее начало» природного мира в этом произведении.
На страницах научных изданий неоднократно освещался вопрос о творчестве Горького в дооктябрьской Бессарабии. В 1901 году в Бендерах, в типографии Семена Гринберга выходит первый сборник «Критические статьи о произведениях Максима Горького». Это была первая книга критических статей о Горьком, которая вскоре стала важным фактором литературно-эстетической борьбы вокруг великого писателя. И то, что названная книга появилась впервые в Молдавии, заслуживает в данном случае особого внимания.
До издания первого двухтомника Горького бессарабские читатели знакомились с произведениями Горького в разных периодических изданиях России «Русских Ведомостях», «Русская мысль» (Москва) и др. Но в бессарабской печати 1901-1907 гг. в таких разнохарактерных изданиях как либеральная «Бессарабская Жизнь», реакционные «Бессарабские Губернские Ведомости» и черносотенный листок «Бессарабец», публикуются различные произведения Горького, что подчеркивает популярность писателя.
В 1901 году газета «Бессарабские Губернские Ведомости» впервые познакомила читателей с содержанием пьесы Горького «Мещане» и повестью «Трое».
Повесть «Трое» газета охарактеризовала как «выдающееся явление русской беллетристики последнего времени».
В период с 1907 по 1917 о Горьком в бессарабских газетах писалось очень мало, как мало и публиковалось его произведений.
В 1907, 1908, 1909 и 1910 годах на страницах бессарабских газет находят отражение прежде всего ошибки Горького, связанные с его «богостроительством» и «богоискательством», а также с временным расхождением Горького с большевиками и с нашумевшим в свое время так называемым «исключением» Горького в 1909 году из социал-демократической партии.
Горький представал перед бессарабским читателем как великий писатель, творчество которого было неразрывно связано с самыми актуальными вопросами русской жизни, с проблемами гуманизма.
Своеобразным свидетельством популярности раннего Горького могут служить и те многочисленные заимствования, подражания, стилизации, аналогии, образные ассоциации, которые потоком хлынули после издания горьковских «Очерков и рассказов» отдельными книгами.
В бессарабской прессе того времени есть десятки литературных фельетонов, в которых обильно использованы романтические образы и мотивы в аллегорическом воплощении из раннего творчества Горького.
Аллегорические образы моря, грозы, бури пользовались исключительным вниманием со стороны бессарабских литераторов. Вот несколько характерных названий: «Море шумит», «Гамма моря», «Гроза», «Буря», «В бурю» и др.
Авторитет М.Горького в молдавской советской литературе был так высок, что в произведениях многих молдавских поэтов (Е. Буков, Л. Делеану, Г. Менюк, Б. Истру, Л. Корняну, Э. Лотяну и др.) мы находим живой интерес к творчеству писателя. Это или переводы на молдавский язык, или стихи, посвященные ему, или собственное творчество, где присутствуют аллюзии из горьковских произведений. Ярким примером влияния творчества Горького может служить поэзия Емилиана Букова (1909–1984). По признанию самого Букова, «Песня о Буревестнике» еще в 30-е года была созвучна с собственным мятежным чувством молдавского поэта. В течение многих лет Буков переводит «Песню о Буревестнике», пока в 1961 году не создаст лучший вариант перевода известного горьковского произведения. Некоторые детали и выражения настолько удачны, что поэтические образы становятся материализованными, ощутимыми. При сравнении оригинала и молдавского перевода легко заметить, что Буков при создании основных художественных образов использует и элементы молдавского фольклора.
Еще одним ярким примером переосмысления произведений Горького стало творчество Эмилия Лотяну, поэта, сценариста, режиссёра. Не останавливаясь на шедевре молдавского кинематографа, фильме «Табор уходит в небо», снятом по мотивам горьковского рассказа «Макар Чудра», обратимся к стихотворению Лотяну «Золотое молчание». В рассказе Горького «Читатель» присутствует афоризм: «Нет мудрости превыше молчания», после чего звучит саркастический смех. Стихотворение Лотяну «Золотое молчание» предваряет эпиграф из «Песни о Соколе»: «Безумству храбрых поем мы песню». Персонаж стихотворения, олицетворяющий обывателя, мещанина, твердит: «Я не Джордано Бруно!» и говорит о своем умении молчать. Для Э. Лотяну важен прежде всего элемент сатирический, его стихотворение становится пафлетом против философии «золотого молчания.» Читая, ставший сегодня уже раритетом, первый молдавский роман «Утро на Днестре» (1951) Иона Канны, сначала удивляешься безыскусности и некоторой наивности автора, а затем втягиваешься в сюжетные коллизии, начинаешь сочувствовать и сопереживать героям. Возможно, это связано с тем, что термин «соцреализм» для нас уже в прошлом, возможно, нельзя пройти мимо горьковских реминисценций. Несомненно одно – роман легко читается, оставляя позитивный след в душе, веру в «утро новой жизни». Интересна история написания этого романа Иона Канны. Обратим внимание на предшествующую ему автобиографическую повесть «Мать» (1948) (явная перекличка с Горьким). Затем в 1951 году выходит роман «Утро на Днестре». Фактически это переработанная вышеназванная повесть. А в 1962 году роман окончательно дорабатывается в современном нам варианте.
В молдавском литературоведении существует двоякое определение жанра произведения И. Канны: как повесть или как роман. Придерживаясь точки зрения большинства, считаем уместным говорить о жанре романа, определяя его как социально-идеологический. Именно так ряд ученых определяет жанровую модель романа Горького. «Мать» оказывается классическим образцом социально-идеологического романа (в смысле реализации исходной жанровой схемы): здесь есть и отвлеченные рассуждения, и проповедь, и попытки изображения утопического идеала. Именно поэтому в романе И.Канны присутствует четкое социальное деление на богатых и бедных, нет полутонов и приглушенных красок, все предельно четко и ясно.
Большинство критиков (Коробан В., Пынзару С., Хропотинский А., и др.) отмечают, что художественные особенности романа И. Канны «Утро на Днестре» принесены в жертву актуальной тематике, роман написан, что называется, на злобу дня. Но при этом живой контакт с действительностью, местный колорит, занимательность позволяют говорить о художественном своеобразии первого молдавского романа.
Для более полного подтверждения взаимовлияния русской и молдавской литературы приведем, в качестве примера, еще один роман молдавского прозаика Александра Липкана «Пробуждение», впервые напечатанный в 1952 году, но задуманный еще в конце 30-х годов. Немного раньше в 1948 году из печати вышло молдавское издание романа Горького «Мать» в переводе А.Липкана и А.Кындя. Очевидно, что Липкан одновременно работал как над своим романом, так и над переводом «Матери» Горького. Это не прошло бесследно для романа Липкана. «Мать» Горького, над переводом которой Липкан работал во время написания романа «Пробуждение», фигурирует в нем как «действующее» лицо: революционное «пробуждение» некоторых персонажей романа начинается именно с чтения горьковской «Матери». Один из героев «Пробуждения» воспринимает роман Горького, как описание своей собственной жизни и проверяет себя по Павлу Власову. Помимо «Матери», в романе «Пробуждение» прослеживается еще и влияние рассказа Горького «Челкаш», который, кстати, переводился А. Липканом тоже во время работы над своим романом. «Пробуждение» – первый молдавский роман на историко-революционную тему. В нем впервые в молдавской литературе была предпринята попытка создать образ нового человека, образ революционера.
Открытый диалог двух культур не только обогатил раннее творчество М.Горького, но и помог молдавской культуре, молдавской литературе в их становлении и росте. Отрадно заметить, что этот процесс имеет перспективу продолжения в плане – «Горький и приднестровская литература». С позиции литературного краеведения интересными для современной школы представляются два вопроса: первый – пребывание Горького в Молдавии; второй – издание книги о Горьком в Бендерах.









