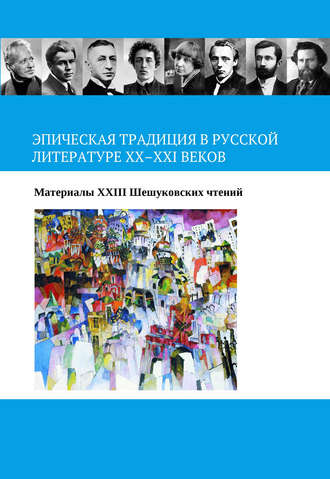 полная версия
полная версияЭпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков
Следующий вид повествования, выделенный нами на основе комментирующего слова, «реальное повествование». «Реальное повествование», комментируя исторические события и лица России, быт и обычаи XVIII века, географические и краеведческие сведения и т.п., выполняет более значимую роль в осмыслении текста в силу одновременного присутствия нескольких взаимосвязанных точек зрения, а также благодаря частой смене их носителей в рамках одного речевого высказывания, что, безусловно, несет в себе разноплановую оценочность. В результате того, что в рамках одного речевого высказывания точка зрения может принадлежать не только повествователю, но и персонажу, речевые фрагменты данной группы гораздо «глубже» встраиваются в художественный мир. Более того, точки зрения их носителей часто смешиваются и трудноотделимы друг от друга. В свою очередь, смешение авторского (опосредованного повествователем) и персонажного планов повествования, способствуя амбивалентности [1, с.124] вымышленности и подлинности, порождает ощущение реальности истории – истории, рассказанной в неформальной обстановке, словно беседа между давними приятелями.
Для чего необходимо вводить комментарий в художественный мир?Сам писатель отмечает, что образы он создает по одному принципу: «я как автор всегда определяю отношение своих героев к самым важным вопросам: к женщинам, к детям, к совести, к родине, к окружающему миру» [3]. Таким образом, чтобы показать отношение героев к основополагающим вопросам бытия, требуется моделирование ситуаций, где это отношение раскрывается в полной мере. А «реальный комментарий», в частности исторический, с присущей ему событийностью, является благодатной почвой для создания дополнительного сюжетного движения, то есть конструирования необходимых ситуаций, представляемых разными носителями точек зрения. Очевидно, что подобная организация речевых фрагментов должна способствовать формированию непредвзятого читательского отношения к герою. Из этого следует, что художественный прием, состоящий в изменении повествовательных фрагментов посредством комментирующего слова, расширяя границы вымышленной действительности за счет событий и субъектных модуляций, позволяет читателю самостоятельно формировать объективное отношение к герою и постоянно становящемуся миру, основываясь на суждениях о причинах и следствиях сюжетного события и определении значимости поступка героя. Этим обусловлена и сложноорганизованная объектная структура повествовательных фрагментов: конфигурация эпизодов часто выстроена таким образом, что в соседствующих эпизодах поступки героя (или их последствия) представлены амбивалентно в морально-этической и духовно-нравственной системе координат.
Однако Алексей Иванов мастерски пользуется постмодернистским инструментарием в форме игры с читателем: в кажущихся условиях свободы интерпретации текста, писатель в то же время умело задает вектор его осмысления в соответствии со своим замыслом. Нам представляется, что для этого он использует так называемую «сложную точку зрения» повествователя. Данный вопрос рассматривался в работе ученого Б. А. Успенского «Поэтика композиции» [9], где речь шла о двух позициях повествователя в романе «Война и мир» (внешняя и внутренняя точка зрения). Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в повествовательных фрагментах «Тобола». С одной стороны, читатель смотрит на художественный мир через оптику восприятия отстраненного «всезнающего» повествователя с характерной для него нейтральной речевой стихией, соответствующей общелитературной стилистической норме. Но, с другой, «безличностное, объективное» достаточно часто «размывается» в субъективном: «всезнающий» повествователь от границы между вымышленным и реальным мирами начинает смещаться к центру художественного мира, то есть тяготеет к персонификации, пытается стать объективированным носителем речи. На уровне композиционной структуры обнаруживается коллизия: субъектом изображения он тем не менее не становится, а черты объективированного носителя речи в таком повествователе прослеживаются. В подобных композиционных формах речи утрачивается общелитературная стилистическая норма, проступают элементы сказовости. В частности, отмечаются следующие особенности грамматических форм высказываний:
1) простые и короткие предложения (подобие разговорной речи),
2) элементы стилизации под речь персонажа: «наметили», «не мог поспеть», «когда было должно» и др,
3) вводные конструкции, выражающие отношение говорящего к высказыванию, его оценку («И этот союзник, оказывается, предал…» [4, с.165]. «Дикий вопль взвился, наверное, до небесного Престола» [4, с.166]). Повествователю словно требуется сослаться на чье-то впечатление, снять с себя ответственность за манифестируемые им взгляды.
«Функция посредничества», характеризующая, в первую очередь, повествователя, в данном случае тяготеет к тому, чтобы «приобрести лицо» (стать полноправным субъектом вымышленного мира). То есть во втором случае предстает позиция не «повествователя вообще», а непосредственного «синхронного» наблюдателя. Здесь отметим, что «эти две позиции могут иногда совмещаться … так же, как и каждая из них может совмещаться с позицией того или иного персонажа» [1, с.262].
Утверждение И.Н. Сухих о том, что «доминантные установки повествования от первого лица – презумпция достоверности и эффект оправдания» [8, с.254], находит наглядное подтверждение в романе. И хотя персонифицированного рассказчика у Иванова, конечно, нет, но повествование, как мы уже отметили, тяготеет к «я-повествованию». Таким образом, позиция «синхронного» наблюдателя для читателя оказывается авторитетной: читатель верит тому, кто якобы сам был свидетелем случившегося. При этом явную прямую оценку событиям и героям повествователь не дает, да и не должен, поскольку как носитель точки зрения «синхронного наблюдателя» для читателя он, по сути, персонаж, то есть сам подвергается читательской оценке. Более того, частое смешение точек зрения и трудность или даже невозможность определения их носителя предоставляет читателю свободу выбора варианта интерпретации, однако это только видимость. Поскольку формально перед читателем все тот же повествователь, который рассказывает историю, то он же и руководит процессом рассказывания, а значит, в любой момент может как изменить точку зрения (стать «всезнающим»), так и встроить в значимый повествовательный фрагмент речевое высказывание, способное привести читателя к выводу, который необходим автору. Например, в повествовательном фрагменте, где субъект речи и точка зрения совпадают (повествователь), изображение деяний Петра заканчивается выводом, – «такого с городом не сотворил бы ни шведский король Карл, ни польский король Станислав» [4, с.166] – в котором заметна явная интерпретация и оценка действий Петра I.
Итак, измененные повествовательные фрагменты, сохраняя разъяснительную функцию комментариев, выступают современным инструментом авторской оценки и, как следствие, средством, влияющим на читательское восприятие.
Писателю Алексею Иванову, как человеку увлекающемуся, при подобном способе изображения вымышленной реальности свойственно усложнять субъектно-объектную организацию повествовательных фрагментов: начиная, например, комментировать одно исторические событие, он углубляется в пояснение представленной в этом событии исторической личности, далее дает развернутый комментарий в целом деятельности этой фигуры и т.д. (эпизоды, связанные с митрополитом Иоанном [4, с.164-167], или рассказ об Аввакуме [4, с.429-434]. Композиционно-речевые конструкции, организуя связанный между собой большой объем информации, в то же время обладают самостоятельной смысловой установкой, что, с одной стороны, оформляет повествовательные фрагменты как единое целое со всем текстом, а, с другой стороны, позволяет сохранять за ними возможность их независимого толкования. Из чего мы и делаем вывод, что данное построение повествовательных фрагментов наделяет художественный текст свойством гипертекстуальности.
В заключении отметим, что гипертекстуальность – закономерная черта современного романа. Отвечая запросам общества на синтетичность, фрагментарность, диалоговость, «клиповость» в современном искусстве, писатель организует свою работу, используя мультидисциплинарный подход, который позволяет задействовать также внепоэтические факторы, влияющие на трансформацию речевых повествовательных структур. С одной стороны, выделяется писательская стратегия: привлечь, заинтересовать читателя не только художественным словом, но и научно-познавательным дискурсом, актуальным на сегодняшний день. С другой стороны, именно «мультизнаниевый багаж» – накопленный опыт писателя в культурологии, краеведении, этнографии, истории, географии – рождает у него желание поделиться с читателем чем-то большим, нежели традиционный художественный образ, в то время как современные принципы и техники художественного языка предоставляют такую возможность.
Литература1. Анализ художественного текста (эпическая проза): Хрестоматия / Сост. Н.Д. Тамарченко. М.: РГГУ, 2004. 442 с.
2. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров. М.: Искусство, 1979. С. 7-180.
3. «Депрессию испытывают все писатели, кроме клинических идиотов» // Хемингуэй позвонит [Электронный ресурс]. URL: http:// papawillcall.ru/page2642211.html (дата обращения: 15.04.2018).
4. Иванов А.В. Тобол. Много званых. М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. 702 с.
5. Поэтика: слов. актуал. терминов и понятий / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. 358 с.
6. Современный энциклопедический словарь. М.: Изд. «Большая Российская Энциклопедия, 1997. 1687 с.
7. Солдаткина Я.В. Современная словесность в век инновационных технологий (вместо предисловия) // Медийные процессы в современном гуманитарном пространстве: подходы к изучению, эволюция, перспективы: Материалы II научно-практической конференции. М.: МПГУ, 2017. С. 5-6.
8. Сухих И.Н. Структура и смысл: Теория литературы для всех. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. 544 с.
9. Успенский Б.А. Поэтика композиции. М.: Изд-во «Искусство, 1970. 256 с.
From the commentary to the problem of hypertextuality of a literary text: compositional features of narrative fragments in the novel by Alexey Ivanov “Tobol. Many invitee»Abstract. In the literature there is a change in the principles of text construction, in particular in the composition structure of the epic work under the influence of the demands of media culture (synthetical, fragmentary, dialogism, non-linearity, etc.). The article discusses the process of transformation of narrative fragments with the inclusion of a comment, these narrative fragments are classified (based on the novel by Alexey Ivanov “Tobol. Many invitee»). And the article discusses the analysis of compositional structure, of the influence of narrative fragments on the perception of text and hypertextual characteristics.
Key words: narrative, comment, Alexey Ivanov, “Tobol. Many invitee”, compositional structure, point of view, hypertextuality.
Информация об авторе: Синявская Ольга Юрьевна, магистрант МПГУ.
Information about author: Sinyvskaya Olga Yrievna, graduate student, Moscow Pedagogical State University.
Мотив двойничества в романе А. Иванова «Тобол. Много званых»
Е.А. Новак /Москва/Аннотация: В статье анализируется мотив двойничества в романе А. Иванова «Тобол. Много Званых». Реализация мотива рассматривается на персонажном уровне. Выявляется роль композиции и художественной детали в создании героев-двойников.
Ключевые слова: сюжет, мотив, эпизод, система образов, двойничество, художественная деталь, композиция.
Первая книга дилогии А. Иванова «Тобол. Много званых» вышла в 2016 г. В одном из своих интервью писатель сказал: «То, что я читал о Сибири в детстве и юности, всегда удивляло меня своей монохромностью. Будто там были только воеводы, дьяки и подневольные крестьяне. Ну, где-то на периферии мелькают несчастные инородцы, с которых сдирают пушной налог. Но когда я вник в эту историю, я обнаружил огромное количество народов и культур, смешавшихся на одном участке пространства и времени. И рассказывать об этом очень увлекательно. Это яркая полиэтническая и поликультурная тема, и открыть ее для широкой аудитории – огромная удача для писателя» [3]. Действительно, в романе Иванова большое количество персонажей, несколько сюжетных линий, т.е. мы имеем дело с многолинейным сюжетом.
Среди пёстрой картины персонажей фигурируют люди разных национальностей, социальных статусов, верований, интересов и т.д. Это петербургские властители, региональные чиновники, церковные иерархи, каторжане-раскольники, пленные шведы, джунгары, остяки, китайцы, русские, малороссы, вогулы, бухарцы.
В романе выделяются несколько ключевых мотивов – предательства, побега, покупки, смерти, прощения и др. Как известно, повторы в художественном тексте высвечивают наиболее значимые моменты.
В сюжете романа особую роль выполняет мотив двойничества. Это сложный комплексный мотив, который состоит из простых повторяющихся образных мотивов, а также дополняется другими элементами поэтики.
Для выявления мотива двойничества обратимся к образам губернатора, князя Матвея Петровича Гагарина и императора Петра I и сюжетным линиям, связанным с этими героями.
В своём интервью А. Иванов так характеризовал Гагарина: «Губернатор Гагарин, конечно, вор, но он пассионарий. Его воровство от человеческой дерзости, а не от банальной алчности. Свой высокий пост он использует не для того, чтобы запустить руку в казну, а для того, чтобы устроить свой бизнес, разумеется, незаконный. Казна для него – просто банк, выдающий беспроцентные ссуды» [1].
Пассионарный характер выделяет губернатора и позволяет ему стать на одну ступеньку с другой пассионарной личностью – Петром I. Как же это выражается на уровне поэтики?
Этих двух персонажей объединяет мотив избранности, веры в свою особую миссию. В прологе романа есть эпизод, когда Пётр I подъезжает к висельнику, вору, толкает повешенного пистолетом, издевается над тем, что он когда-то крал, а теперь с него самого сняли сапоги. В это время верёвка, на которой висел труп, рвётся, и тело падает на землю. После чего Пётр начинает пинать тело, а офицеры смотрят на государя с ужасом. В конце концов, император велит снова повесить висельника на три года, но уже на железную цепь. Пролог заканчивается словами: «рука (мертвеца) торчала из грязи, будто мертвец благословлял императора» [2; 12].
Эта сцена коррелирует с эпизодом, когда князь Матвей Петрович Гагарин молится в Никольской церкви. Автор комментирует: «Матвей Петрович не сомневался, что Христос на иконе благословляет именно его» (часть 1, глава 4) [2; 46].
С мотивом избранности сопрягается мотив чудесной силы, который возникает уже в прологе. Когда Сашка Меншиков заболел и захаркал кровью; его «корёжило в припадках и трясло от лихоманки», врач сказал, что пора его соборовать, но «Пётр у одра простил грешного друга – и Сашка вдруг исцелился… Сашку исцелил он – царь, помазанник» [2;
8]. Похожий эпизод встречается и в повествовании о губернаторе. Когда игумен повёл целовать напрестольное распятие: «Гагарин благоговейно приложился к серебру креста и отошёл; у креста сразу началась толкотня, словно поцелуй князя вселил в святыню особую силу» [2; 46].
Мотив расправы также связывает «губернаторский» и «царский» сюжет. В случае с губернатором данный мотив возникает в двух главах: первый раз – когда он снимает надзирателя таможенной избы с должности (часть 1, глава 4). Причём в ход идёт физическая сила: «Матвей Петрович сжал кулак и прямо в поклоне сшиб надзирателя с ног пушечным ударом в ухо» [2; 52-53]. Второй раз (часть 1, глава 11) – в истории обер-коменданта Бибикова и его Приказной палаты, где Матвей Петрович учиняет разнос. И в этом эпизоде не обходится без физической расправы: «Матвей Петрович вдруг ухватил его за бороду, дёрнул и швырнул на пол» [2; 133]. И там же: «Гагарин от души всадил ему сапогом в толстый зад» [2; 133]. Зеркально отраженная сцена расправы относится уже к самому Гагарину. Когда князь делает подарок Катерине Лексеевне в виде шкатулки с кольцами (часть 3, глава 11), неожиданно появляется Пётр и начинает стучать Гагарина лбом о стол, затем за шиворот гонит князя через царицыны покои и тычками загоняет его в кабинет, т. е. применяет всё ту же грубую силу, что и Гагарин к своим подчинённым.
Следующий мотив, указывающий на двойничество царя и губернатора, – это мотив подкупа. Бухарец Ходжа Косым лишается своего ларчика с золотыми вещами после того, как неудачно пытается наладить дипломатические отношения с Гагариным. Этот же ларчик служит средством усмирения разгневавшегося Петра в эпизоде, где император узнаёт в сыне Матвея Петровича, Алексее, одного из дружков своего сына (отметим совпадение имён сыновей двух героев), устроивших попойку и учинивших «буйство»: перемазались сажей, чтоб их не узнали, «били окна на Адмиралтейской стороне, орали, как припадочные, карету в щепы разнесли» [2; 148].
На уровне деталей сходство двух героев поддерживается не только мотивом расправы с применением физического насилия, но и образом золота. Автор акцентирует пристрастие персонажей ко всему золотому. Отмечается, что Гагарин путешествует в золочёной карете в Тобольск, жалует тысячу рублей обители, чтобы позолотить резьбу ящика с чудотворными мощами Симеона, привозит ларчики с золотом для Петра. Пётр же, со своей стороны, увидев золотые побрякушки, становится одержимым и начинает вести себя, словно ребёнок: «Давай-давай-давай, носом рой, ещё найди, хочу!» [2; 151]. При следующей встрече с Гагариным он говорит: «Мне золото позарез надобно» [2; 467]. При этом царь принимает решение послать два полка в поход на Яркенд, по словам Гагарина, «просто в воде повазгаться» [2; 468], хотя немногим ранее в разговоре Пётр заявляет о том, что у него со «шведом война не закончена, османы Азов отгрызли, донцы́ на одну руку изменники, Кабарда и Башкирь бунтуют» [2; 466].
Наконец, стоит отметить композиционную особенность, которая работает на мотив двойничества. Показательна параллель между прологом романа, где главное действующее лицо – царь Пётр и последней главой книги «Царь Сибири», в которой речь идёт о губернаторе Гагарине и его хитроумном плане: в тайне от Петра развязать войну с джунгарами. Так, метафора статуса губернатора «Царь Сибири» поднимает его на один уровень с царём России – Петром. При этом аналогия усиливается, если принять во внимание, что акцент Пётр – царь России – ставится на начало и конец книги, то есть на сильные позиции текста.
Рассмотрим другой пример воплощения мотива двойничества в романе. Для этого обратимся к образам близнецов Айкони и Хомани.
В сюжетных линиях, связанных с сёстрами-остячками, так же, как и в случае со связкой Пётр-Гагарин, встречаются схожие мотивы, относящиеся непосредственно к близнецам, среди которых можно выделить мотивы продажи, служения, борьбы. Однако образы сестёр строятся ещё и на принципе параллелизма внешних и внутренних состояний. Так, в эпизоде наказания, где Ходжа Косым решает усмирить непокорный нрав Хомани, попавшей в гарем к бухарцу, кровавые следы от плети появляются также и на спине мирно спящей Айкони. Аналогичный пример можно увидеть в сцене, где Айкони испытывает холод в натопленной горнице Ремезовых, в то время как её сестра мёрзнет в холодной тюрьме Воеводского двора вместе с пленными остяками Певлора. Отметим, что приведённые примеры находятся в тесной связи и на композиционном уровне, поскольку расположены в рамках одной главы.
Внутренний параллелизм, или тождество внутренних состояний, показан повествователем по отношению к обеим сёстрам. Как Айкони «всегда ощущала в себе присутствие сестры, могла сказать, чем сейчас занята Хомани, о чём она думает, что у неё на душе» [2; 59], так и Хомани «всегда знала, что Айкони жива, чувствовала сестру на расстоянии» [2; 322].
Двойничество близнецов проявляется и в том, как оценивают сестёр другие персонажи романа. В представлении отца остячек Ахуты Лыгочина «обе девки – это одна девка» [2; 44], и что если он будет отдавать близняшек в жёны, то либо весь Певлор будет смеяться над мужем, у которого только «половина жены», либо мужья обеих дочерей поссорятся между собой. Когда русские забирают у Ахуты одну из дочерей, то он расценивает это событие как очень хитрый обман, в результате которого ему осталась «половина того, что они хотели получить» [2; 45]. Бухарец Ходжа Касым сравнивает двух дочерей с минаретами мечети Хазрет-Хызры, а когда видит их рядом, то у него возникает ощущение, «будто в помрачнении ума он наблюдает какой-то шаманский танец, когда в глазах двоится» [2; 408].
Таким образом, рассмотренные повторяющиеся мотивы в сюжете «Тобола» – избранности, чудесной силы, расправы, подкупа – сближают образы губернатора Гагарина и царя Петра I. Вкупе с художественными деталями и композиционной особенностью построения первой книги романа можно говорить о комплексном мотиве двойничества, который позволяет соотнести двух персонажей в системе сюжета и раскрыть тип человека у власти. Один правит Сибирью, другой – всей Россией.
Анализ воплощения мотива двойничества в сюжетных линиях, связанных с сёстрами-близнецами Айкони и Хомани, показывает эксплицитный характер его выражения по отношению к реализации мотива в связке образов Пётр-Гагарин и служит для развития тем родства и судьбы в романе.
Литература1. Иванов А. Породниться с Востоком мы не сможем // Новая газета. 23.11.2016. URL: https://www.novayagazeta.ru/ articles/2016/11/23/70640-aleksey-ivanov-porodnitsya-s-vostokom-my-ne-smozhem (дата обращения 17.12.2017)
2. Иванов А.В. Тобол. Много званых. М.: Издательство АСТ, 2017. – 702 с.
3. Иванов А. «Я думаю, Дмитрий Дюжев – это вылитый Петр Первый» // Комсомольская правда 07.12.16. URL: https://www. kp.ru/daily/26616/3633673/ (дата обращения 17.12.2017).
The motif of duality in A. Ivanov’s novel “Tobol. Many are called”References. The article analyzes the motif of duality in A. Ivanov’s novel “Tobol. Many are called”. The implementation of the motif is considered at the character level. The role of composition and artistic detail in the creation of double heroes is revealed.
Key words: plot, motif, episode, character system, duality, detail, composition.
Информация об авторе: Новак Евгений Александрович, магистрант МПГУ.
Information about author: Novak Evgeniy Alexandrovich, graduate student, Moscow Pedagogical State University.
Раздел III. Эпика и публицистика ХХ-ХХI веков в школьном и вузовском изучении
Эпика М. А. Шолохова в современном мире: основные подходы к изучению
Д.В. Поль /Москва/Аннотация: В статье представлен краткий обзор подходов к изучению творчества М. А. Шолохова в начале XXI века, обозначены основные направления по исследованию эпики М. А. Шолохова. Автор делает вывод об исчерпанности направления, связанного с атрибутацией шолоховских текстов, о развитии мифопоэтического и контекстного прочтения произведений М. А. Шолохова.
Ключевые слова: русская литература XX века, творчество М. А. Шолохова, исследование шолоховской эпики.
Русская литература советского периода неотделима от политических процессов, происходивших в обществе. В этом согласны даже непримиримые противники, стоящие на диаметрально противоположных ценностных позициях. Правда, по мнению В. В. Кожинова, почвенника, одного из лидеров так называемой «русской партии» 70-х – 80-х гг. XX столетия, литературоцентризм – общее свойство всей русской культуры, т. е. именно он определяет самобытность русской культуры [4]. Для либерала Е. Н. Добренко литературоцентризм – отличительное свойство русской культуры, вот только Нового времени, так как «в силу исторически сложившегося отчуждения политической власти именно в литература оказалась в России политической трибуной» [3. С. 9]. Таким образом, если для почвенников литературоцентризм – имманентен русской культуре изначально, так как обусловлен особенностями национального мировидения, то для либералов – черта, сформированная в результате советского эксперимента. «Специфика советской ситуации – в особом статусе политики: с одной стороны, она вся сконцентрирована на вершине власти, так что все социальные поля фактически «обесточены», лишены власти; с другой стороны, именно в силу этой концентрации политика ищет новые пути для её реализации, проявляя себя в сферах, в которых традиционно её роль довольно мала: всё оказывается деполитизированным и политизированным одновременно, всё – от эстетики до экономики – из источника власти превращается в проводник власти» [3. С. 10]. Отсюда, по мнению Е. Н. Добренко, и предельное сращивание политики и литературы, особенно в области критики и литературоведения. «Политическая инструментализация литературной критики наряду с литературоцентризмом является специфической чертой советской культуры» [3. С. 10].









