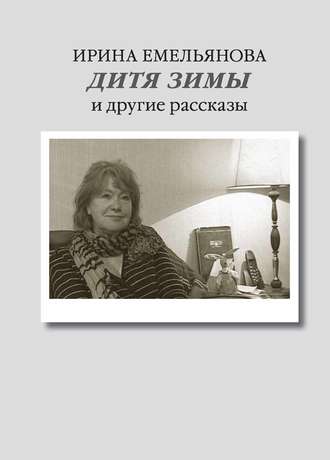
Полная версия
Дитя зимы. И другие рассказы

Ирина Емельянова
Дитя зимы. И другие рассказы
© Емельянова И.И., 2018
© Прогресс-Традиция, 2019
* * *
Ирина Емельянова на балконе своего дома в Потаповском переулке. Фото 1963 года
От автора
Узловые станции
Эта книжка является в каком-то смысле продолжением предыдущей – «Поименное» (Прогресс-Традиция, 2017), хотя построена иначе: это не портретная галерея, не зарисовки людей, появлявшихся на жизненном пути автора в разное время, а сам этот жизненный путь, его основные этапы, узловые станции, иначе говоря «пересадки» (как знаменитая пересадка на станции Потьма Главная на Потьму Вторую и обратно, из Москвы в лагерь и назад в Москву), на которых меняется направление. В соответствии с этим принципом и рассказы-этюды – эпизоды расположены в хронологическом порядке – от послевоенных воспоминаний дошкольницы (1945) до отъезда в эмиграцию (1985).
«Пишите просто собственные записи, не гоняясь за фантазией и не называя их романом… произойдет та выгода, что вас будут читать люди не с намерением читать роман» – так писал Пушкин в последнем номере своего «Современника». Жизнь подтвердила абсолютную актуальность этих слов. Что может быть интереснее живых воспоминаний и дневников! Мне, например, не нужно никакое их «романное» окольцевание. Сама наша безумная жизнь в России ХХ века превратила их в роман.
«…С тобой в жизни будет все хорошо, – писал мне Б.Л. Пастернак в 1957 году. – Желаю тебе, чтобы все, что ты сделаешь хорошего, далось тебе легко, без труда и препятствий».
Трудностей избежать не удалось. О «препятствиях» рассказано на страницах этой книжки. Но хотелось бы остаться верной этому пастернаковскому «почти отеческому» пожеланию – сохранить внимательное и непредвзятое отношение к людям и событиям. Что ж, назовем его «легким».
Некоторые из публикуемых здесь рассказов уже печатались («Новый журнал», «Крещатик», «Глагол», «Из Парижска», «Русская литература» и другие), кое-какие переведены на французский.
Кроме рассказов привожу обширые выдержки из своих записных книжек («Всякая всячина»), которые я веду много лет и которые, на мой взгляд, не утратили своей живости и полемичности.
В конце – для любителей путешествий – несколько отрывков из «путевых заметок». Из разных городов, где я была, выбрала три: Берлин, Марбург и Киев. В этих городах я ходила по маршруту Б.Л. Пастернака, хотелось увидеть его Берлин, его Марбург, его Киев своими глазами. «Столетье с лишним – не вчера…»
Париж, 2018Часы
«Страна стала жертвой своего языка» – это сказано о России. «Мы наш, мы новый мир построим» – не получилось, зато весь старый переименовали. И вот вместо имения Прозоровки (усадьбы Голицына, где лучшие архитекторы по ландшафту соорудили «город-сад», а в начале ХХ века это сокровище купил фон Мек) появилась станция Кратово. Иван Крат (vieille crapule, «старая жаба», как сказали бы французы. Он, правда, был jeune) был большевистским комиссаром Рязанской железнодорожной ветки, скончался в 1923 году, вклад его в революцию неясен, но мраморная доска на облупленных стенах станции красовалась. Параллельно переименованию вырубили аллеи, растащили утварь из барских покоев, пруды протухли. Правда, не все. Кое-что еще оставалось от прежнего великолепия и в военные годы, когда мы поселились там вчетвером (мама, дед, я с братом, ему не было и года). Сначала жили в роскошной даче, но после смерти Митиного отца нас с этой дачи выселили в маленькую комнату при конюшне. За стеной фыркали лошади, но спать это не мешало. А бабушка в это время была в лагере, в Сухобезводном (страшное название! Как тут не подумать о силе «слова»!). Все это я знаю, конечно, лишь по рассказам, была слишком мала.
Пейзажи Подмосковья – одни из красивейших в Европе, я до сих пор так считаю. Особенно хороши они по этой железнодорожной ветке – сосны вперемежку с березами, песчаные дорожки, солнечные поляны, полные земляники, никогда никаких луж – песок впитывает. И незабываемый запах нагретой смолы и хвои, и сосновые вершины колышатся высоко-высоко, как паруса. Но отнюдь не дышать хвойным настоем прибыли мы в это Кратово, час на электричке от Москвы. Бежали от бомбежек осенью 1941 года. Скоро немцы были отброшены, бомбежки Москвы прекратились. Знаменитый «прорыв под Москвой». Почему бы не вернуться в свою квартиру в Потаповском, зачем тесниться в конюшне?
Несчастный характер мамы… Что хорошо в художественном образе и в поэзии, в повседневной жизни оборачивается часто мучением для других. Ее безалаберность, доверчивость, «простота»… («Простота хуже воровства» – так гласит русская житейская мудрость.) «Пока вы в Кратове, пусть Лариса Михайловна посторожит вашу квартиру, это интеллигентнейший человек, ведет курс общего фортепиано в консерватории…» «О конечно, конечно! И Лариса Михайловна со своим сыном Севочкой, и ее свекровь, и бывший муж, милости просим, как любезно с их стороны!» Одним словом, когда мы делали робкие попытки вернуться, и мама с маленьким Митей на руках, и я, держащаяся за ее подол, топтались на пороге своего дома, пятилетний Севочка наезжал на меня на трехколесном велосипеде с криком: «Это моя квартира!»
По счастью деду дали землянку при конюшне, крыша над головой у нас была. Мама жалко оправдывалась: «Здесь легче прокормиться. В Москве бы мы пропали…» Действительно, они с дедом по ночам выкапывали неубранную картошку на колхозном поле. Потом ее на что-то меняли. А мама стала еще и донором – в этом же госпитале сдавала кровь для раненых, за что получала «донорскую» карточку. Был и другой «приработок» – кормление противотифозных вшей своей же кровью. У нее долго на руке оставалось красное пятно, даже после войны; за этот подвиг полагалась какая-то повышенная донорская карточка. Тем не менее всего этого было недостаточно, чтобы нас прокормить, у меня был и фурункулез, и педикулез, а Митя вообще чуть не умер.

Д.И. Костко, О.В. Ивинская с дочерью Ириной. Кратово, 1943

Д.И. Костко с внучкой Ириной. Москва, 1944
Но война заканчивается, в воздухе ожидание победы, счастливый май 1945-го. Бывшие господские хоромы, в советское время – профсоюзные санатории предоставлены раненым, в них – госпитали, по парку гуляют легкораненые, в палатах – безногие, безрукие, контуженные. Там же и мастерские, где обучают новым профессиям инвалидов, «навалидов», как говорит маленький Митя, «центры реабилитации». Хорошенькие медсестры и добровольцы в белых косыночках снуют между корпусами, организуют «самодеятельность», читают слепым письма, водят тех, что на костылях, по аллеям. Кипят романы. Какой-то легкораненый поднимает меня на руки: «Девочка, ты хочешь, чтобы у тебя был папа?» Разумеется, у нашей красавицы мамы сногсшибательный успех. Все (кто не слеп и при руках) пишут стихи. Часто посвящают ей, да и она сама полна стихами, и в конюшне, и копая картошку, все время бормочет что-то про себя.
Тяжелораненый Николай Степанович Р. влюбляется в нее без памяти. Он в прошлом радиоинженер, под Сталинградом ему пробило пулей позвоночник, позвонки как-то скрепили, но жить он может лишь с ошейником, огромными раструбами, в таких ошейниках иногда можно встретить собак, в раструбах почти не видно головы. Он называет маму Люси (на английский манер), засыпает стихами, иногда пушкинскими: «Я сердцем жажду отдохнуть / И близ тебя, мой друг бесценный». Мы с братом (да и вскоре вернувшаяся бабушка) его боимся. Он одержим смертью. Снимается повешенным, рассылает фотографии знакомым. Снимается в гробу, платит дворникам по три рубля, чтобы стояли возле гроба и плакали… Мама набирается мужества и говорит ему, что стихи его никуда не годятся, чтобы он выбрал себе другое занятие. Он зла не держит, продолжает любить. (А через 50 лет, читая мамино дело 1949 года, я нашла в нем такие его «показания»: на злобную реплику следователя «Вы ведь собирались жениться на Ивинской!» он с достоинством отвечает: «Я был смертельно ранен под Сталинградом в 1942 году и жениться ни на ком не могу. А влюбляться никому не запрещается». Его, героя войны, инвалида, хотели привлечь за то, что он сконструировал радиоприемник, по которому слушал «Голос Америки», а мама «присутствовала при прослушиваниях».) Их дружба продолжалась и после Кратова.
Кратовские дорожки засыпаны отцветающей сиренью. Праздничный концерт в большом зале госпиталя. Зал полон, все в бинтах, на костылях, но веселые, ведь уже победа, начнется счастливая жизнь. Маленький Митя и я с дедом сидим в первом ряду, мама из-за занавеса высовывает свое хорошенькое личико, подмигивает нам. Она – главная артистка. В черном платье, худенькая, выходит на сцену, читает стихи. Это, конечно, Симонов, «С тобой и без тебя», книга-фетиш военных лет. «Огни далекие дрожали / На том, на русском берегу». «Твой звездный плащ из старой драмы / И хлыст наездницы в руках, / И твой побег со сцены прямо / Ко мне на тонких каблуках». Красиво, зал восторженно хлопает. После перерыва – спектакль, и мы не можем поверить, что дама в шляпе, падающая в обморок, с огромным веером – мама. Это, разумеется, чеховский «Юбилей». Полный триумф, мы в темноте возвращаемся в нашу пристройку к конюшне, долго крутимся в кроватках, а дед утешает нас, что скоро все будет хорошо, и бабушка, его обожаемая «Мурочка», вернется из Сухобезводного…
Дмитрий Иванович Костко, наш дед. Он был третьим бабушкиным мужем, и не был нам кровной родней. Но он был лучше любого родного. Мы с братом его обожали. Соревновались, кто придумает для него лучшее прозвище: дедан, дедастик, дедуля… Он был белорус из-под Орши, из семьи священника. Каково пришлось этой семье, легко себе представить – они все были «лишенцы», то есть не только не имели права голосовать, но и работать на государственной службе. Дед был самым удачливым: он закончил семинарию в Могилеве по «светской» профессии – учитель русской «словесности», так он всегда о себе говорил, и ему удавалось иногда поработать в школе. Но при каждой «чистке кадров» его увольняли, и он, как и вся его трудолюбивая семья, знавший немало ремесел, стал сапожничать, в московской квартире на кухне чинил и «кроил» соседям башмаки, а в Кратове стал «инструктором сапожного дела», то есть обучал «навалидов» тачать сапоги, тех, конечно, у кого были руки. Для безруких, слепых и контуженных были другие профессии. Потому-то и выделили ему приконюшенную комнату, «служебную жилплощадь».
Все бабушкины мужья были, как сказано у Пушкина в «Пиковой даме» о супруге графини, «своего рода бабушкины дворецкие». «Белорусы – тряпки», – говорила сама графиня, любившая хлесткие характеристики (за что и пострадала на шесть лет лагерей во время войны!). Да, дед был «тряпка», «подкаблучник», слишком добрый, слишком мягкий. Однако, несмотря на всю свою кротость, он был глубоким антисоветчиком. Ненавидел Сталина. (Забавная семейная легенда гласит, как еще до войны, когда он преподавал, один раз любимые ученики пришли его навестить. Он часто болел, слабое сердце. Вместо пирожных они принесли ему большой портрет Сталина. Пришлось повесить. И 16 октября 1941 года, когда немцы подошли к Москве и она вся дымилась от сжигаемых партийных билетов, сочинений Ленина, советских удостоверений, пришел дедов звездный час: он разорвал и сжег на газовой плите в кухне ненавистный портрет «мучителя дорогого», как он называл вождя.) В кино никогда не ходил: «Агитки не смотрю». В эвакуацию ехать отказался: «Немцы тоже люди. Я деточек вынесу, никто нас не тронет». Поэтому мы и оказались в Кратове, а не в Ташкенте.
Вот он занимается со мной, второклассницей, арифметикой. «Реши задачу: в 1912 году я преподавал в гимназии в Орше. Получал 60 рублей. Хлеб стоил полкопейки килограмм. Сейчас я “инструктор сапожного дела”, получаю 600 рублей. Хлеб стоит 3 рубля килограмм. Сколько хлеба я мог купить в 12 году и сколько сейчас?» Получалась какая-то сумасшедшая разница, не верилось, но западало. Поэзию русскую обожал, шутил по-семинаристски: «Ну, почитаем Пушкинзона, Лермонтовича». Кумиром его был Некрасов. «Орина, мать солдатская», «Мороз, Красный Нос» читались почти каждый вечер. Как-то, взяв с маминой тумбочки (а у нее всюду, даже под подушкой, валялись любимые стихи) сборник Пастернака, водрузил на нос очки и погрузился в «Сестру мою жизнь». Возмущен был до крайности: «Да это просто больной какой-то! Что делают с русской литературой! Надо с Люсей поговорить!» Вместо разговора вышел скандал, мама заявила, что с такими ретроградами жить под одной крышей не желает, ушла ночевать к подруге. Но когда состоялось личное знакомство нашей семьи с БЛ, дед отступил. «Прекрасный, образованный человек, – сказал он о БЛ. – Только пишет не то».
Мама поехала за бабушкой где-то в конце войны в это самое Сухобезводное и привезла ее, полуживую, в лохмотьях, без зубов (ее «сактировали»). Немного придя в себя, бабушка сразу занялась моим педикулезом и фурункулезом. Мою бедную белобрысую головку густо намазали керосином, обвязали тряпкой и, несмотря на плач, так заставили спать. Лошади фыркали за стеной, я терлась головой о штукатурку, сдирала повязку. Но вшей победили. Достали где-то рыбий жир (борьба с фурункулами) и вливали в меня по столовой ложке по утрам. Кроме того, энергичная бабушка стала возить меня в Москву в поликлинику «на кварц». Я сидела 20 минут на табуретке, не отрывая глаз от костлявой прозрачной ручки, которую заливал синий свет. Моя рука? Было чувство отчуждения от своей плоти. Мне такая рука не нравится!
Вторым бабушкиным подвигом было водворение нашей семьи в Потаповском. «Консерваторка» Лариса Михайловна не спешила сдавать позиции. Она укрепилась еще своей сестрой, которая устроила в кухне фотолабораторию – фотографировала «по-черному» желающих для паспортов. Там же и проявляла, объявив себя «кооперативом». На помощь нам была призвана милиция, домоуправ (мы ведь были прописаны, а они нет!), их, наконец, выдворили, но, уезжая на своем трехколесном велосипеде, подросший Севочка бодро кричал мне: «Все равно я тебя на улице задавлю!»

«Отличницы учебы». Москва, школа № 612, 1946
Первое сентября. Я иду в первый класс. К зеленой вязаной кофточке бабушка пришивает белый воротничок, денег на коричневое форменное платье нет. Проблема с фартуком – он обязателен. Есть два типа фартучков: дорогой шерстяной с оборочками и сатиновый без. Девочки в классе сразу разделились: обеспеченные – с оборочками, мы, большинство – в сатиновых. С портфелем проблема еще острей: они дорогие, нам совершенно не по карману. Конечно, приятно на них посмотреть – блестящие, свистящие, из «кожезаменителя» (дермантина, как тогда говорили), с острым резиновым запахом, главное – с нашитыми большими карманами для завтраков. Но нам его не купить. Однако по спокойным лицам дедушки и бабушки я понимаю, что все в порядке, портфель мне будет. И действительно, 31 августа дед с торжественным лицом вручает мне портфель. Я мрачно молчу. Он, как лоскутное одеяло, сшит из обрезков кожи, и никакого кармана! Любимый ученик деда по «сапожному делу» инвалид второй группы контуженный глухонемой Николаевский сшил мне этот портфель во время дедовых занятий. «Он же из настоящей кожи! Понюхай, как пахнет! Телячьи шкурки!» Дед профессионально обнюхивает портфель. Что делать, иду с этим портфелем в школу, где уже топчутся во дворе первоклашки. На перемене девчонки вынимают из своих резиновых карманов завтраки, я тоже вынимаю, но из «нутра», пакетик лежит рядом с букварем. Однако моральная победа все же остается за мной. Отворачиваю рукавчик кофточки – на руке у меня часы! Настоящие! Огромные для тощей лапки, тем не менее ни у кого в классе наручных часов нет! Коллега деда по госпиталю, обучающий безногих инвалидов часовому делу, смастерил мне эти часы из старых деталей. Милый тихий старичок Василь Васильевич, приятель деда еще по Могилеву, заходивший к нам иногда «на огонек», приготовил мне сюрприз. Пусть у других хрустящие портфели с карманами. Зато у меня – ЧАСЫ! И они ИДУТ!
Сухиничи
Для мальчика, в ночи глядящего эстампы,Любая даль желанна и близка.Как этот мир велик в лучах настольной лампы…Так писал Бодлер.
Летом 1948 года мы склонялись под зеленой лампой над столом, где была разложена карта Калужской области. Планировалось путешествие в Сухиничи – полугород-полудеревня, «райцентр», где с конца тридцатых годов проживали наши родственницы, учительствовавшие в местной школе, одна полуглухая, другая стремительно теряющая зрение – тетя Надя и тетя Мила. Сейчас в Сухиничи добираются за три часа на электричке, нам же предстояла ночь в плацкартном вагоне. Митя, уже первоклассник, стриженый, с круглой рожицей на тонкой шейке, и я, десятилетняя, с восторгом смотрели на деда (дедан, дедастик, дедуля, мы его обожали), изучающего карту местности: так, река Брынь с омутами (дед был заядлый рыболов), брынские леса, переходящие в знаменитые брянские (дед был также грибник, он ведь родился в Белоруссии), две станции – главная и узловая… Дед планировал также сделать крюк в Калугу, навестить своего однополчанина (еще по Первой мировой) полковника Михал Михалыча Скорикова, из белого офицера быстро ставшего красным. Об этом Михал Михалыче рассказывалась легенда: он женился, вопреки воле родителей, на ортодоксальной еврейке Рахили, «неописуемой красавице», которую также прокляла ее семья. Рахиль крестилась, превратилась в Раису и сопровождала мужа, став сестрой милосердия, по всем фронтам. Крюк в Калугу требовал особого маршрута, с пересадкой. Воистину, мир был велик!

Д.И. Костко с внуком Д.А. (Митей) Виноградовым и внучкой Ириной. Москва, 1948
Митя мечтал о грибах в брынских лесах и о рыбалке с дедом. Я тоже об этом подумывала, но главное – я хотела вырваться из Москвы, из нашей квартиры, где в это лето сложилась очень тяжелая обстановка. Мама была беременна. Бабушка поджимала губы, устраивала сцены: «Третий ребенок! Двое сирот на руках… И ведь он (БЛ) никогда не бросит семью! О нас бы подумала! Могла бы прекрасно выйти замуж! Детям нужен настоящий отец!» Я тоже дулась, по ночам плакала злыми слезами. Дед был, как всегда, «соглашатель»: «Ничего, Мурочка, прокормим!» («Белорусы – тряпки», – говорила о нем бабушка.) Бедная мама плакала, уходила ночевать к подругам.
И вот – облегчение. Мы уезжаем. Пусть этот ребенок родится без нас.

Дом аптеки. Сухиничи. Улица Ленина
После смерти Мити (2004 год) не осталось почти никакого «литнаследства». Обрывки переводов, неоконченные стихи, а «основной корпус» – письма протеста: в «Московский комсомолец» (по поводу обвинения мамы в сотрудничестве с КГБ), на телевиденье (по поводу пошлой передачи «Дачники», фильма Рязанова, Караулова), в суд – по поводу изъятого у нас при обыске архива БЛ, переписка с Евгением Борисовичем (страстное и чем-то жалкое письмо Мити и высокомерный ответ последнего). Боролся ночами бессонными за маму, за ее доброе имя. И при всем этом неожиданно цельным куском выглядят 10 страниц его воспоминаний, писал незадолго до смерти. О чем же? Об этом сухиническом путешествии! Как ни вспомнить В.В. Розанова: «Почему я люблю так детство? Я безумно люблю его, мое страдальческое детство». У Мити оно не было страдальческим, но и счастливым не назовешь. Почему-то в начальных классах его все время били, дед на кухне вразумлял: «Ты же мужчина, царь природы! Сожми вот так кулак – и в грыздело!» Он, бедный, и спал со сжатым «по-мужски» кулачком. Все это вскоре стало на свои места, он превратился в забияку, авторитет в классе, его дружбы заискивали. Но в первый год – заплаканная мордочка, нежелание утром идти в школу… А тут – каникулы! Впереди беззаботное лето! Дед укладывал свои сокровища: рыболовные снасти, крючки, лески (он ссучивал их сам на коленке из непонятно откуда взявшихся волос от лошадиных хвостов), а удилища он нам смастерит на месте, ведь это брянские леса! Мы будем ловить ершей на червя, а щук на живца, на «жерлицу», а потом на берегу варить уху! Митины глазки горели восторгом. «Дед был гений. Не помню, чтобы у него чего-нибудь не получилось», – напишет он незадолго до своей смерти. Укладывал дед и сапожные колодки, дратву, кожу, воск, гвозди в коробочках из-под ландрина – для «заработка». Он, окончивший учительскую семинарию в Могилеве, «учитель словесности», педагог от бога, переквалифицировался: стал преподавать «сапожное дело» в госпитале для безногих инвалидов войны, а на дому подрабатывал. В ту пору заказчики и на военные сапоги, и на модные лодочки не переводились. Сидит он на кухне, за «верстачком», в зубах гвоздики, в руке шило, продевает дратву, молоток тук-тук-тук… Какое там преподавание! Он – сын священника, «служителя культа», чуть ли не «враг народа». А сапоги и в Сухиничах будут заказывать, заработает.

Надежда Ивинская (Симонович), вдова Владимира Ивинского. Выпускница Варшавской консерватории. Тамбов, 1913
И вот мы уезжаем. С чемоданами, сумками, котлетами, белыми батонами и котом. Накануне я, уязвленная своим социальным ничтожеством, опустила своей подруге Зое в почтовый ящик записку (телефона у нас не было): «Мы уезжаем в С…и». Пусть думает, что в Сочи, а не в какие-то Сухиничи! Ехали всю ночь на настоящем паровозе, пыхтящем, дымящем, с огромными буквами «И.С.» (Иосиф Сталин) впереди. В открытое окно доносился упоительный запах паровозной гари, даже искорки от топки залетали, и мы были счастливы. «Так бы ехать и ехать», – напишет Митя в своих записках. Часов в шесть утра поезд остановился на станции Сухиничи-главные. Если таковы были «главные», каковы же были «узловые»?? Одноэтажное кирпичное строение, дощатая платформа, пыльные бегонии вокруг бюста Ленина. А по платформе бежала с седой косичкой хвостиком вверх глухая тетя Надя, вдова Владимира Ивинского, маминого дяди, брата пропавшего в гражданскую войну Всеволода. Владимира судьба была не легче: лесовод, преподаваший в Архангельске, в 37 году арестован как вредитель и, конечно, расстрелян. Запуганные женщины (с Надей ее мать и сестра) бегут из Архангельска, ищут уголок, куда бы приткнуться, скрыться, и главное – поближе к Москве, чтобы хлопотать за Володю. В «райцентре» Калужской области (Сухиничах) требуются учителя в среднюю школу, их берут, дают «халупу», как они называли свой домишко. Но берут в учителя только тетю Милу, Надю же, жену «врага народа», из жалости директор оформляет секретарем (идеальный почерк! И грамотность!), одновременно – помощником библиотекаря.
«Скорее, скорее! – кричит тетя Надя. – “Фаэтон” не будет долго ждать». Мы сваливаем чемоданы и сумки на телегу, садимся сами, кучер (он же школьный сторож. Сердобольный директор распорядился выслать за «москвичами» школьный транспорт) взмахивает кнутом, немолодая кобыла трогается… Едем по центральной, пыльной, с выбоинами, улице – Ленина, конечно, бывшая Соборная. Главное скульптурное сооружение – огромный бетонный чан, хранится вода на случай пожара. А домишки и вправду такие, что загорятся в любую минуту: деревянные, но по-городскому лепятся друг к другу, сзади огородики, перед серыми унылыми «фасадами» палисаднички с подсолнухами. Останавливаемся перед своей «резиденцией» – совсем врос в землю, покрыт прохудившимся толем. «Да, крыши маловато!» – говорит не теряющий юмора дед и сразу же лезет на крышу – «латать». А где же брянские леса? Где омуты с русалками?
Тетя Надя оправдывается: «Выгорели… Да и бомбили много, здесь же фронт проходил…»
(По прихоти судьбы через много лет на Потаповском происходит трагикомическая встреча. Уже совершенно глухая тетя Надя приезжает к нам погостить. Собираемся вечером за столом, приходит и часто бывавший у нас в тот год корреспондент немецкой газеты «Ди Вельт» Гейнц Шеве, человек уже немолодой, повоевавший на восточном фронте, ставший страстным пацифистом. Услышав, что это – тетя из Сухиничей, он бледнеет. Оказывается, их часть стояла в 42 году в Сухиничах, и он их бомбил. «Война… Мне было 20 лет… Гитлер… Я не хотел. Сказали – важный железнодорожный узел». Но тетя Надя не имеет претензий: «У нас стоял немецкий офицер. Он приносил маме шоколад. А когда пришли “наши”, они почему-то выбили окно, хотя дверь была открыта и можно было просто войти. Маму выставили в сени, она скоро умерла». За столом она сто раз переспрашивает одно и то же, отвечает невпопад, раздражает, и Митя, считая это остроумным, кричит Гейнцу (да уже и выпил): «Что же ты, Гейнц, так плохо бомбил!» Мы покатываемся со смеху, но Гейнц встает и бросает вилку: «Так не шутить! Так не шутить!»)


