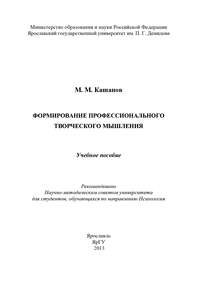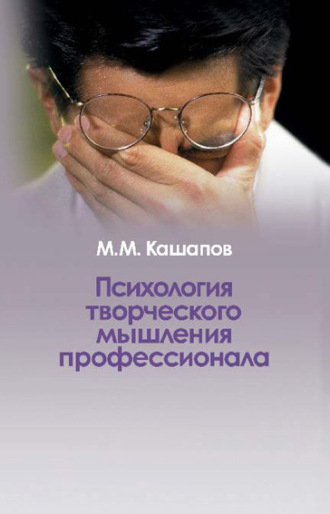
Полная версия
Психология творческого мышления профессионала
Представителями чикагской школы Дж Г. Мида, Ч. Кули, Дж. Болдуина изучалось становление личности под влиянием взаимодействия с другими людьми в традициях символического интеракционизма. Ситуация общения раскрывается ими как система взаимноориентированных акций и реакций, развернутых во времени. Богатство и своеобразие заложенных в той или иной личности реакций, способов деятельности, символических содержаний зависит, по Дж. Г. Миду, от разнообразия и широты понимания систем взаимодействия, в которых она участвует. Дж. Г. Мид предложил реконструкцию философии через призму решения житейских проблем.
По утверждению Дж. Мида, самосознание представляет процесс, в основе которого лежит практическое взаимодействие индивида с другими людьми. Согласно его взглядам, индивид познает себя через других членов социальной группы, к которой он принадлежит. Объектом же для себя он может стать, приняв отношение к себе других индивидов, в рамках той совместной общественной деятельности, в которую они включены. Исследователь считает, что становление человеческого «Я» как целостного психического явления есть не что иное, как происходящий «внутри» индивида социальный процесс, в рамках которого возникают «Я-сознающее» и «Я-как-объект».
В сознании человека Дж. Мид выделяет «Ме», понимая под этим обобщенную оценку индивида другими людьми, т. е. то, как выглядит в глазах других «Я-как-объект». «I» воплощает в себе импульсивную, неупорядоченную тенденцию психической жизни индивида. Совокупность «I» и «Ме» образует собственно личностное, или интегральное, «Я» («Self»). Согласно теории Дж. Мида, успешность взаимодействия определяется умением предвидеть реакцию партнера на то или иное действие индивида. Следовательно, для того чтобы быть успешным в социуме, человек должен развивать рефлексию, т. е. способность поставить себя на место другого.
Особое место при этом отводится осмыслению ситуаций индивидом, в частности, профессионалом, который на основе их категоризации и интерпретации создает собственные «когнитивные соответствия» профессиональный ситуациям. Когнитивные соответствия содержат как индивидуальное, «личное» знание, так и общее, позволяющее людям приходить к согласию относительно содержания профессиональной ситуации. Категоризация и интерпретация профессиональных ситуаций является основой их «определения» учителем, а «определение» профессиональной ситуации, в свою очередь, детерминирует конкретные действия и переживания учителя, соответствующие этой ситуации. Таким образом, профессионал не просто реагирует на ту или иную профессиональную ситуацию, но «определяет» её, одновременно «определяя» себя в этой ситуации, и тем самым он фактически сам создает, «конструирует» тот социальный и профессиональный мир, в котором живет и работает.
Зарубежные психологи в решении вопросов образования учителей особое внимание обращают на профессиональную интеракцию. В работе G. Caux рассматриваются виды психологической поддержки учителей в школе, описаны приемы её осуществления [47]. А анализ учебно-воспитательных ситуаций раскрывается как один из важных моментов профессионального общения. A. Garliche описывает работу «групп самопознания школьников» с учителем – специалистом по психоанализу во главе. Тематика занятий таких групп состоит из обсуждения своих насущных проблем, познания и понимания себя и других, решения конфликтных профессиональных ситуаций [52]. I. Lund на основании проведенного исследования содержания конфликтов в коллективе школьников раскрывает возможности достижения воспитательного эффекта [56]. Проблемы взаимоотношений директора школы со штатом учителей рассматривает F. Hadriga [55]. E. Günther на основании исследования межличностного взаимодействия определяет стиль отношений в школьном коллективе как между учениками, так и учителями и учащимися [54]. Изучая взаимоотношения между учителями и учениками, Th. Gordon выделяет типичные конфликтные ситуации и способы их разрешения. Им разработана схема анализа, позволяющая определить различные стратегии поведения учителя. Ценность данной работы представляют советы по улучшению психологического климата в школе [53]. Таким образом, интеракционистский подход расширяет представления о том, в каких ситуациях решающую роль в выстраивании поведения играют личностные характеристики, а в каких они не играют никакой роли.
С этой точки зрения представляется перспективной установка, производная от концепции интеракционизма, включающей в качестве основных следующие положения (Cronbach, 1975; Magnusson & Endler, 1977; O’Connor, 1992):
1. Индивидуальные различия в поведении постоянны в разнообразных ситуациях, при этом когнитивные переменные рассматриваются как опосредующее звено между ситуацией и поведением субъекта.
2. На основе сходства восприятия определенных ситуаций можно предсказать сходство поведения индивидуумов.
3. Перцептивно-когнитивные процессы отличаются избирательной чувствительностью к потребностям организма.
В отношении первого положения представляет интерес трансформация исследовательских установок известного психолога, профессора Колумбийского университета Уолтера Мишеля, который от строго ситуационисткой позиции перешел к предположению, что личностные переменные обусловливают индивидуальные различия – обычно называемые стилями или стратегиями – на основе субъективной значимости для индивидуума внешних стимулов. В соответствии с традициями интеракционисткого подхода, концентрирующегося на анализе взаимодействия индивидуальных и ситуативных факторов, У. Мишель [60–64] анализирует это взаимодействие, опираясь не на психодинамические концепты или черты, а на личностно-акцентированные (person–focused) переменные когнитивного плана, такие как:
• Характеристики компетентности (competencies), включающие интеллект, развитие Я, социальные и личностные достижения и навыки, социальную и когнитивную зрелость.
• Кодирующие стратегии (encoding strategies), связанные с тем, как люди репрезентируют и символически кодируют информацию. Например, информацию: «На следующей неделе будет контрольная работа» одни студенты воспримут как возможность продемонстрировать свои способности, а другие как повод для тревоги.
• Ожидания (expectancies), проявляющиеся в трех формах: последствия от выбранного нами способа поведения; результат интерпретации стимула; оценка собственной самодостаточности (что именно я могу выполнить успешно, с чем могу справиться).
• Субъективные ценности (subjective values), связанные с нашими предпочтениями и избирательностью, симпатиями и антипатиями.
• Система саморегуляции и планирования (self-regulatory system), характеризующая способы, с помощью которых мы регулируем свое поведение в соответствии с намеченными целями и принятыми стандартами; а также наборы правил, которыми мы руководствуемся даже при отсутствии внешних ограничителей.
В целом же данный подход ориентирован на изучение особых видов профессионального поведения (например, профессиональная деформация личности специалиста и её влияние на решение профессиональной проблемы) или специфических типов коммуникаций (например, специалист – администратор, специалист – родитель, специалист – ученик). Такая позиция исследователей позволяет им сделать акцент на осмыслении особенностей (механизмов, факторов, закономерностей) конструирования развивающей социальной ситуации (например, технология создания конструктивной конфликтной профессиональной ситуации, формирующей личность ученика).
Когнитивная психология мышленияВ когнитивном подходе (Д. Норман, П. Линдсей, Р. С. Лазарус, Дж. Келли, Дж. Роттер, У. Найссер), главным и непосредственным предшественником которого был К. Л. Халл, начиная с конца пятидесятых годов, представлены теоретические взгляды на понимание взаимодействия человека с окружающей средой. Первоначально в качестве основной задачи в когнитивной психологии выступало изучение преобразования информации, происходящее с момента поступления сигнала до получения ответа. На этапе 50-х – конца 60-х годов, когда более или менее четко проявились контуры когнитивной психологии, она рассматривалась как, в известной мере, единое теоретическое направление, определяемое, по мнению У. Найсера, той информацией, которую несет с собой стимул, и тем, какие превращения эта информация в дальнейшем претерпевает.
Быстрое развитие когнитивной психологии позволяет сегодня отвечать на вопрос: почему люди различно воспринимают одни и те же ситуации, почему они, обладая примерно равным набором стратегий, выбирают неодинаковые способы разрешения конфликтов. Психологи стали рассматривать ситуации с точки зрения самого субъекта, его «внутренней реальности. Одним из самых впечатляющих завоеваний «когнитивной революции», по мнению Л. Хьелла и Д. Зиглера, – стало широкое распространение этого подхода в последнее десятилетие. Они утверждают, что фактически не осталось ни одной сферы поведения человека, где исследователи не рассуждали бы о возможном когнитивном влиянии [41, С. 594].
В качестве единицы анализа мышления они выделяли «новый взгляд», «схему». «Мышление, – по мнению Р. Л. Солсо, – это процесс, с помощью которого формируется новая мысленная репрезентация; это происходит путем преобразования информации, достигаемого в сложном взаимодействии мысленных атрибутов суждения, абстрагирования, рассуждения, воображения и решения задач. Мышление характеризуется скорее всеобъемлемостью, чем исключительностью» [33, С. 423].
Приверженцы когнитивного подхода предлагают рассматривать изменение поведения как следствие изменения когниций (убеждений). Когнитивизм утверждает, что индивиды не просто машины, механически реагирующие на внутренние факторы или внешние события. В стремлении понять, каким образом человек расшифровывает информацию, принимает решения или решает насущные задачи, Биери вводит понятие «когнитивная сложность» как способность конструировать социальное поведение на основе многочисленных параметров. Он отмечает, что испытуемые с большей степенью когнитивной сложности обладают более дифференцированной системой измерений для восприятия поведения других людей по сравнению с испытуемыми с меньшей степенью когнитивной сложности.
«Промежуточные переменные» К. Л. Халла имеют прямое отношение к пониманию им не только проблемы мышления в целом, но и особенно соотношения формализованных и неформализованных его компонентов. Наряду с тем, что он провозглашал «чистый стимульный акт» для объяснения таких когнитивных процессов, как экспектации, антиципации, постановка целей, этот ученый выдвигал гипотезу цепной реакции, причем под звеньями этой цепи имелись в виду элементы внутренней речи – вербальные ассоциации. Ещё позднее К. Л. Халл идентифицировал эту цепь вербальных ассоциаций с самим процессом познания.
Экспериментальные данные показывают, что человек, оказавшись в условиях проблемной ситуации, выстраивает субъективный образ этой ситуации ещё до того, как приступает к поиску решения. То, как представлена действительность, ситуация в индивидуальном сознании, предопределяет характер последующей интеллектуальной деятельности.
Решение проблемы ситуационной детерминации поведения связано с исследованием состояния когнитивной ограниченности концентрации мышления на определенном числе факторов. Такое субъективное состояние сопровождается ухудшением адаптационных возможностей. Действие, считают Weill-Fassina A., Rabardel P., Dubois D., состоит, с одной стороны, из репрезентации ситуации, определения в ней признаков, свойств, вариантов или соответствующей информации, чтобы поставить задачу и реализовать её решение, с другой стороны, из реализации действий, которые позволят произвести изменение ситуации [65, С. 20]. Репрезентации строятся и развиваются в зависимости от взаимодействия между действиями субъекта и возможностями, предложенными окружением. Это процесс качественный и протяженный. Для построения репрезентаций необходимо выявление характерных инвариантов классов ситуаций, выбор и разработка точных синтетических указаний, позволяющих идентифицировать ситуации соответствующим образом [65, С. 21].
Как пишет один из пионеров когнитивной психологии Дж. Брунер, на характер гипотез и их силу влияет история развития и основные склонности личности [5, С. 99]. Это означает, что приобретаемый социальный опыт и индивидуальные особенности его усвоения во многом определяют сущность формируемой личности.
Придается большое значение предвосхищению решения проблемы и положительно рассматриваются возможности развития этого качества у школьников в обучении. Даже порой не совсем точная догадка ученика об идее решения задачи приносит больше пользы, чем молчание, вызванное боязнью ответить неправильно. «Не лучше ли для учащихся строить догадки, чем лишаться дара речи, когда они не могут немедленно дать правильный ответ?» [5, С. 60].
Характер реакций профессионала на возникающие конкретные ситуации определяется его когнитивной интерпретацией. А, следовательно, для понимания того, почему одни профессионалы успешны в своих действиях в ходе разрешения конфликтных ситуаций, а другие – нет, нам важно знать не только то, что специалист воспроизводит в своем сознании в процессе разрешения ситуации, что он видит, но и то, как он осмысливает происходящее.
Обеспечение психологической поддержки решений, вырабатываемых и принимаемых профессионалом, рассматривается в терминах когнитивной психологии. Такая поддержка описывается как процедура постепенного приближения к требуемому результату на основе операций по изучению реальной ситуации, оценке полученной информации, коррекции образа ситуации и т. д. до тех пор, пока не будет получен требуемый результат. Роль психолога в этой связи сводится к постепенному и непрерывному изучению состояния дел, выявлению предпосылок слабоструктурированных проблем, их формулированию и решению учителем.
Как мы видим, когнитивный подход характеризуется выделением особенностей распознавания, анализа и решения ситуации. При этом возможно выделение, как отдельных компонентов ситуации, так и их взаимосвязи в процессе решения конкретной профессионалической ситуации. Таких исследователей, как Дьюи Д., Солсо Р. Л., Weill-Fassina A., Rabardel P., Dubois D., интересует, актуализация каких процессов мышления детерминирует сцепление отдельных актов мышления в стратегии и тактики. В результате проведенных ими исследований было сформулировано понимание мышления как преобразования, переработки информации.
Учение школьников должно быть организовано вокруг задач и проблем, воздействующих на природную любознательность и развивающих исследовательскую активность ребенка, ибо, пишет Дж. Дьюи, «прирожденное и неиспорченное состояние детства, отличающееся горячей любознательностью, богатым воображением и любовью к опытным исследованиям, находится близко, очень близко к состоянию научного мышления» [15].
Программируя результат деятельности, свои действия, человек задумывается о способах и средствах выполнения, о ресурсах и источниках энергии. Дж. Роттер настаивает на том, что люди локализуют источники активности либо «вовне», либо «внутри» себя. Он ввел понятие «локуса контроля». Эта одна из интегральных характеристик самосознания человека, которая связывает чувство ответственности, готовность к активности и переживание собственного «Я». В представлении и переживании «Я» отражаются знания человека о своих желаниях, жизненных целях, путях самореализации. Если человек связывает происходящие с ним события с уровнем своей компетенции, способностей, целеустремленности, личностными качествами и видит источник активности в себе, его контроль над ситуацией определяется как внутренний, интернальный. Если человек объясняет происходящие с ним события и результаты дел как влияние судьбы, везения-невезения, случайности, обстоятельств и намерений других людей, ему свойственен внешний, экстернальный тип контроля над действиями в ситуациях, в том числе и с конфликтным содержанием.
Следуя концепции Дж. Роттера, когда человек результаты своих действий связывает с собственными усилиями («что я сам буду делать»), тогда надежды его с большей силой осуществляются, размах его действий шире и успех более вероятен. В последующих ситуациях действия такого человека будут более зрелыми, особенно после неудачного опыта, который переживается как свой собственный, а не опыт других людей. Опыт от неудач у интерналов более информативен, чем у экстерналов. Последние не ожидают от себя ничего и усилий не прикладывают: это не создает «новизны». Накопления информации о ситуации у них не происходит. Таким образом, успех больше тогда, когда к «образу результата» добавляются внутренние усилия, и меньше, когда «образ-результат» строится через внешний источник.
В русле когнитивного подхода разработана теория «когнитивного диссонанса» Л. Фестингера, согласно которой в результате рассогласования имеющегося у человека опыта с восприятием актуальной ситуации появляются определенная мотивация, стимулирующая и направляющая деятельность человека. «Нередко случается, что поведение людей противоречит их собственным убеждениям или их публичные заявления не имеют ничего общего с истинными воззрениями. Это сопровождается в психологическом плане возникновением диссонанса, а вслед за ним – разнообразных проявлений стремления к его уменьшению» [36, С. 119].
По мнению Л. Фестингера, одним из наиболее эффективных путей устранения диссонанса между мнением индивида и группы является принятие набора когнитивных элементов, соответствующих точке зрения группы. В противном случае с точки зрения когнитивной психологии возникает конфликт, в котором сталкиваются идеи, желания, цели, ценности, т. е. феномены сознания.
Основным условием возникновения намерения согласовать своё мнение с мнением группы, с точки зрения Л. Фестингера, является желание принадлежать к данной группе, т. е. её значимость для индивида: «диссонанс между собственным мнением и знанием о существовании противоположной точки зрения будет больше, если высказывающий это мнение человек или группа признаны авторитетными» [36, С. 226]. С увеличением диссонанса возрастает и стремление его уменьшить.
Специально спроектированная ситуация создает такие условия, когда под воздействием малозаметных ситуативных факторов испытуемый вынужден изменить свое поведение. В таком случае, не замечая тех ситуативных факторов, которые привели его к изменению поведения, он будет приписывать причины изменения своего поведения самому себе. В результате у испытуемого возникает представление, что эту форму поведения он выбрал добровольно, следствием чего является закрепление адаптивного поведения.
Дж. Тернер, основываясь на работах Л. Фестингера, разработал теорию социального сравнения, основным содержанием которой было исследование процесса категоризации. Дж. Тернер рассматривал проблему реципрокной зависимости как проявление разных форм категоризации. Так, опираясь на данную идею можно ситуативность/надситуативность профессионального мышления рассматривать расположенными на противоположных осях, а иногда и антагонистических полюсах. Причем движение идет от ситуативного полюса к надситуативному и наоборот. Специфика движения определяется не только ситуационным контекстом, в котором оказывается профессионал, но и его личностной и профессиональной позицией. Дж. Гилфорд выделил два типа мышления: конвергентное и дивергентное. В рамках своей концепции он считал операцию дивергенции наряду с операциями преобразования и импликации, основой креативности как общей творческой способности.
Представители когнитивных теорий рассматривают интеллект как процесс переработки информации. Типичной когнитивной моделью интеллекта является модель Р. Стернберга, который выделяет три компонента, обеспечивающих переработку информации: метакомпоненты – процессы управления (признание проблемы, осознание проблемы, выбор стратегии и др.); исполнительные компоненты (индуктивное мышление, кодирование, выявление отношений, сравнение, обоснование, ответ); третий компонент – приобретение знаний (избирательное кодирование, комбинирование, сравнение). Его исследование направлено на стратегию решения задач, а собственно интеллект теряется в изучении компонентов и стратегиях, самом процессе решения задачи.
Согласно концепции Р. Стернберга, интеллектуальное поведение по отношению к внешнему миру может выражаться в адаптации, выборе типа внешней среды или ее преобразовании. Р. Дж. Стернберг и Р. К. Вагнер (1986) отмечают, что задания, направленные на изучение «академического» интеллекта формируются другими, с самого начала содержат всю необходимую информацию для решения, изолированы от повседневного опыта, имеют четкую формулировку, единственный правильный ответ и только один метод правильного решения. Такого рода задачи они объединяют под общим названием «формальных». Сюда же можно добавить замечание Дж. Сисайт и Дж. Лайкер (1986) об их ограниченном контекстном диапазоне, где элементы задачи рассматриваются формально, в то время как в реальной жизни люди и вещи обладают массой собственных характеристик, так что формально верное решение в реальной ситуации может оказаться неадекватным.
Попытка систематизировать различные когнитивные теории и экспериментальные данные на основе понятия ментальной репрезентации предпринята Ж. Ф. Ришаром [29]. Он развивает продуктивный подход, позволяющий отойти от схемы «стимул – промежуточная переменная – реакция» и объединить в единую модель этапы перцептивного входа, планирования, исполнительного действия и оценки результата.
Согласно концепции Дж. Келли, любое событие открыто для многократной интерпретации. Человек воспринимает и осмысливает мир с помощью конструктов: «умный», «мужской»… Без конструктов мир будет восприниматься диффузно. Дж. Келли был одним из первых персонологов, кто придал особое значение когнитивным процессам как основной черте функционирования человека. Он считал, что человек не пассивный организм, реагирующий на внешние раздражители. С его точки зрения, люди ведут себя так же, как ученые, делающие вывод на основе прошлого опыта, и строят предположения о будущем. Все люди, по мнению Дж. Келли, – ученые в том смысле, что они формулируют гипотезы и следят за тем, подтвердятся они или нет, вовлекая в эту деятельность те же психические процессы, что и ученый в ходе научного поиска.
Дж. Келли предполагал, что человек не контролируется настоящими событиями (как предполагал Скиннер), или прошлыми (как предполагал Фрейд), а скорее контролирует события в зависимости от поставленных вопросов и найденных ответов. Основная идея когнитивной теории соответствия Дж. Келли состоит в том, что когнитивная структура человека не может быть несбалансированной, дисгармоничной, если же дисбаланс появляется немедленно, возникает тенденция вновь восстановить внутреннее соответствие когнитивной системы. Поведение человека рассматривается не с точки зрения автоматического реагирования на изменения внутренней и внешней среды, а ставится в прямую зависимость от знаний человека о среде.
Когнитивистский подход может быть охарактеризован как стремление объяснить социальное поведение при помощи описания преимущественно познавательных процессов, характерных для человека. Главный акцент в исследованиях Г. Тэшфел делается на процесс познания. Общая линия связи между этим процессом и социальным поведением прослеживается следующим образом: впечатления индивида о мире организуются в некоторые связанные интерпретации, в результате возникновения чего образуются различные идеи, верования, ожидания, аттитюды, которые и выступают регуляторами социального поведения. Таким образом, это поведение целиком находится в контексте некоторых организованных систем образов, понятий. При объединении этих образований в связанную структурированную систему человеку неизбежно приходится принимать некоторое решение, первым шагом на пути к которому является отнесение воспринимаемого предмета к какому-либо классу явлений, то есть соотнесение его с определенной категорией. Процесс категоризации предполагает избирательное отношение к той или другой категории, что требует, в свою очередь, с особой тщательностью определить значение воспринимаемого предмета. Поэтому главными проблемами социальной психологии когнитивисткой ориентации становятся проблемы перцепции, аттракции, формирования и изменения аттитюдов.
Д. Хейес рассматривает структуру когнитивных процессов, связанных с разрешением проблемных ситуаций: 1. Обнаружение (нахождение) проблемы. 2. Генерализация идей для решения проблемной ситуации. 3. Планирование хода решения. 4. Подготовка к решению проблемной ситуации.
В. Н. Дружинин в рамках когнитивной парадигмы, объясняющей психические процессы в терминах процесса переработки информации, выделяет три основных блока этого процесса: блок приёма, переработки и применения информации, соответственно трем процессам выделяются три общие способности – интеллект, обучаемость, креативность. Каждая из общих способностей проявляется в более частных способностях, является свойством сложной функциональной системы и является в той или иной степени генетически обусловленной.