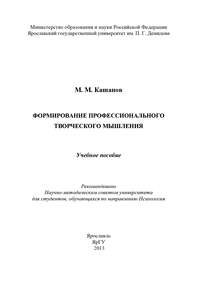Психология творческого мышления профессионала
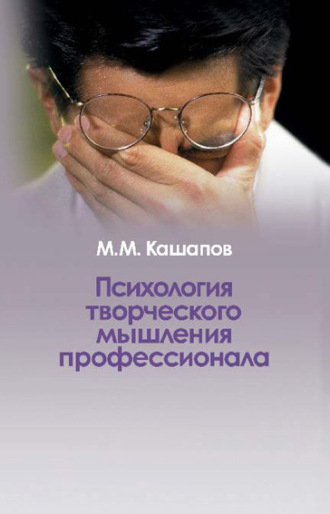
Полная версия
Психология творческого мышления профессионала
Жанр: книги по психологииучебная и научная литератураобщая психологиямонографииотраслевая психологияпсихология творчествапрофессиональная психологиятворческое мышлениезнания и навыки
Язык: Русский
Год издания: 2006
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу