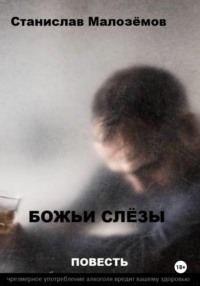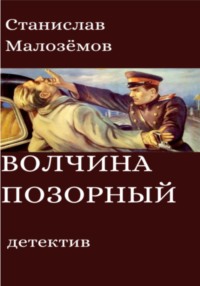полная версия
полная версияПолная версия
Вести с полей
– Мы не при чём, товарищ майор, – тихо и испуганно прошептал в трубку Данилкин. – Приписывал тонны – да. Сажайте. Но пойти на убийство двойное мы человеку как могли приказать? Фактов-то нет. А Костомаров клеветать на суде будет. Он такой, сука! Он жену убил и с ума сошел. Его не проверяли в диспансере? Он же псих! Пришел ко мне перед вашим приездом пьяный в дымину и прямо так и сказал, что скажет на следствии, будто мы его заставили и Петьку убить, и Нинку Захарову. Дайте мне с ним свидание до суда. Сделайте очную ставку. Увидите сами, что он клеветать будет. Доказательств-то у него нет! Товарищ майор Малович, нет у него доказательств, клянусь!
– Доказательства-то у него есть. Чистосердечное признание о сложившихся обстоятельствах под давлением директора и его супруги, – Малович замолчал. Жуткая была пауза. Данилкин почувствовал прилив крови в голову. Давление подскочило. И пульс вены рвал скоростью и силой. Данилкин инстинктивно перебирал в голове возможно пропущенные им собственные промашки, но не находил. И от этого разговор Маловича становился жутким как кошмарный сон с глубокого похмелья.
– Всё. Хана, – мелькнула до того тоскливая мысль, что Данилкин стал громко икать в трубку. Он встал, поднял голову, но ни давление, ни икота не пропали.
– Ты воды выпей, Гриша, – посоветовал со смехом Малович.– Вода-то есть в кабинете или только коньячок?
– Нет, нет. Доказательств не имеет Костомаров. Нет!– вскрикнул вдруг Данилкин. – Он врёт. Он меня ненавидит. И Соню мою. За то, что мы одни знали, что это они с Нинкой приписки делали и мне фальшивки на подпись кидали. Знали же, сволочи, что я ни бум-бум в сельском хозяйстве. Что меня на пересадку директором посадили перед переводом заворготделом обкома.
А я учитель географии и не понимал ни хрена, что они мне дают. Думал, там всё как надо, в бумагах. А Петька Стаценко лично Костомарову рожу бил по пьянке и посадить его обещал вместе со мной. Жалобы везде посылал на нас. Думал, что я тоже одобряю приписки эти. А Костомарова, говорил Петька, жена моя заставляла завышать объёмы так, что даже я не знал. Это чтобы совхоз передовиком был и меня скорее в обком забрали большим начальником. Костомаров испугался и убил Петьку. А жена знала об этом. И его шантажировала. Говорила, что если он меня не уломает, чтобы я его на своё место рекомендовал, когда меня в обком заберут, то она расскажет милиции, вам, значит, что Петьку убил он. А я сам им приказывал, чтобы они приписывали, государство дурили. Вот как дело-то было.
Выговорился Данилкин на одном прерывающемся дыхании, с бешеным стуком в висках и дрожью рук. Высказал всё и умолк. Плохо ему было. Малович, видимо, уловил это и понял, что перебрал с розыгрышем. А розыгрыши и подначки обожал уже теперь майор Малович с гражданских детских лет своих. И со времен юности, которую он провел электриком на Соколовско – Сарбайском горно- обогатительном комбинате, где все добывали и обрабатывали железную руду, а он там управлял работой сложнейших электросетей.
– Эй, Гриша! – позвал он громко.
– Я тут, – вяло ответил Данилкин, директор.
– Доказательства-то у Костомарова может и есть, – спокойно сказал Малович. – Но я чего звоню-то…Он это…Сегодня ночью вместе с доказательствами помер в СИЗО.
– Что? – Данилкин ждал этого сообщения, но до конца уверен не был, что Чалый сможет устроить ликвидацию его самого страшного врага. Были сомнения. За пятьсот рублей всего и так просто, обыденно как-то. Не до конца верил, хотя слово Чалого всегда верным было. Без промахов. – Ой, как жаль. Так бы отсидел десятку, да и вышел бы человеком. Это ж исправительно-трудовая колония. А что случилось? Как вдруг помер-то он?
– Инфаркт, – Малович вздохнул. – Миокарда. Оказалось, что нервничал много, а сердечко слабое было. Трещину дало. У себя похороните? Или пусть тюремные люди и закопают? У них там кладбище своё.
– Пусть они сами, – Данилкин ещё не отошел от общего шока и его колотила мелкая дрожь, похожая на микроскопические судороги всего тела. – У нас люди не захотят его хоронить. Не любили его.
– Короче, такие дела, – сказал Малович, – Живи, работай спокойно. Жаль покойника, конечно. Но жизнь продолжается. Да, Григорий Ильич?
– Ну, а куда деться? – стал успокаиваться Данилкин. Дрожь почти ушла. И кровь в висках притихла, не билась в венах.
– А ты баньку-то готовь на завтра. В прошлый раз не успели. Преступника надо было уличить, – Малович снова засмеялся. – У нас в этот день отдых с Тихоновым после дежурства. Два дня. Заночуем у вас после бани. Ну, покойника помянем. Верно?
– Ждём! – воскликнул Данилкин. – Всё готово будет на уровне. Давайте, не передумайте!
– Ну, пока. Привет жене, – сказал Малович и повесил трубку.
В кабинете было душно и директор распахнул окно. И в него сразу же влетели и лай собачий, и верещание на дереве маленьких серых птиц с длинными клювами, и звук движка трактора ДТ- 54, который уже проехал мимо конторы в сторону столовой. А кроме этих звуков тихо и тепло было на улице. Спокойно было всё и правильно. Как и должно быть в самом счастливом месте на планете.
Снял Данилкин притихшей и мягкой после дрожи рукой трубку телефона местного, совхозного. Ткнул на его большой панели продолговатую кнопку, под стеклом которой была приклеена бумажка «Данилкин. дом»
– Сонечка, приветик, дорогая! – голос директора стал бархатным и нежным. Любил он жену свою. За всё. Удивительная женщина попалась двадцать лет назад. Не было в ней ничего, что можно было бы не любить. И даже через столько лет недостатков в её сущности не образовалось. Любилось Григорием Ильичем в ней всё. От поворота головы на сохранившей с молодости сан и горделивость шее, до речи её, похожей на приглушенный перезвон серебряного колокольчика, обёрнутого тонким шелестящим шелком. У неё был один только минус. Она не могла почему-то рожать детей. Проверялись везде, в Мокве даже. И всюду говорили им, что в порядке вся её детородная система. Тогда проинспектировали и самого Данилкина, который, как выяснилось, вполне мог бы заменить на любой ферме лучшего быка-производителя.
– Не дал Господь, – коротко резюмировала Софья Максимовна факт. На том и прекратили все разговоры и даже мысли изгнали оба по теме рождения потомства. И, само-собой, этот минус, от жены не зависящий, не тронул нежных Гришиных чувств и не умалил любви.
– Ты, Сонечка, сделай сегодня ужин на троих всего, зато по самому высшему разряду. Лучшие умения свои редчайшие приложи. Сколько там у нас дома коньяка армянского?
– Ящик полненький, Гришаня. Не трогали его пока. В чуланчике он, – Соня, судя по интонации рада была броситься к плите и разделочной доске прямо в эту секунду. Она тоже очень любила Гришу своего и всё, что он думал и делал.– А с какой высокой горки к нам сегодня румяненькие колобочки прикатятся? Уж не из ЦК ли КПСС? Вот только с ними мне неуютно. Всегда подмывает с них галстуки сдёрнуть и рубашки до пупа расстегнуть. Потому как напиваются они всегда до полусмерти, а галстуки жмут. И рубашки еду в животах давят. Жалко их, родненьких.
– Серёга будет один, без жены. Ты да я, – ласково остановил её рассуждение Данилкин. – День сегодня у нас троих прекрасный. Вот и посидим, как награждённые судьбой нашей счастливой. А? Не возражаешь?
– Что-то случилось, Гришуня? Я поджилками чувствую – случилось. Чую, что плохое стряслось. – Софья Максимовна начала со своим забавным акцентом зачитывать вызубренную молитву, возможно, душеспасительную. Данилкин ждал. – А вот как наслоение на это плохое ложится что-то очень хорошее. Ой, господи! Прости мою душу грешную за то, что я вмешиваюсь в деяния твои!
– Сонечка, ты, голубушка, приступай пока к своему священнодействию, – Данилкин, директор попутно достал из ящика стола рацию. – Мы через часик и подойдём уже. Давай, я отключаюсь. Целую.
Он аккуратно разместил трубку на её пьедестале, высоком, похожем на те, что торчали рожками на первых советских телефонах. Взял рацию.
– Вызываю Чалого!– крикнул в решетку Григорий Ильич.– Чалый! Вызываю Чалого. Приём.
– Чалый на частоте! – прохрипела рация.– Слушаю тебя, Ильич. Весь внимание!
Слушать ничего не надо, – крикнул директор. – Жду в кабинете через десять минут.
– Уже бегу, – сказал Серёга и отключился. Хрипы и помехи умолкли и в тишине этой жутко почему-то стало Данилкину. Он налил сто граммов водки, всегда стоявшей сзади, в шкафу. Между карандашами, ластиками, линейкой, кнопками и скрепками. Налил сто пятьдесят, пошарил под бумагами и нашел карамельку, не старую ещё. Выпил, занюхал. Посидел. Отпустило вроде бы.
Птички с длинными носами на ближней к окну ветке бормотали с присвистом о чем-то своём, важном настолько, что они целый день не переставали, беседовали. И конца у толковища ихнего не было. А вот нервы человеческие приглаживались птичьим убаюкивающим языком. И к тому моменту, когда в кабинет ворвался огромный Серёга Чалый, задевавший плечами сразу оба косяка дверных, Григорий Данилкин уже расслабился и напевал тихонько
популярную песенку «Ходит по полю девчонка» композитора Михаила Фрадкина.
– Чё!? Чё такое, Гриша!? – голосом героя, всегда готового на подвиг, прокричал запыхавшийся Чалый Серёга.
-Сядь сюда, – директор ткнул пальцем в стул напротив. – И дых свой приспокой.
– Ну, чего? – уже спокойно сказал Серёга. – Чего я несся, как вроде ты тут рожаешь, а акушер опаздывает?
– Щас тебе не до юмора будет, – Данилкин, директор, достал второй стакан, налил Серёге и рядом поместил карамельку. – Пей сперва.
Чалый залил водку броском и конфету для приличия понюхал. Но вопрос из глазах его тёмных сверлил Григория Ильича насквозь.
– Спасибо тебе, друг! – Данилкин вышел, пожал Чалому руку, обнял и снова сел на свое директорское место.
Серёга молчал. Прикидывал что-то.
– Да ну нафиг? – вдруг вскочил он со стула. – Число какое сегодня? Шестое!
Да ты что? Точно?
– Некуда точнее, – ещё раз вышел Данилкин из-за стола и Серёгу крепко обнял. К себе прижал. – Малович звонил. Сказал. Инфаркт. Ночью сегодня.
– Мля-я! – сказал Чалый и подошел к окну. – Победили, значит. Эх, мать твою так!
Он тупо глядел в окно. Пальцами сжал подоконник так, что где-то хрустнуло. Или в подоконнике, или в пальцах.
– Ну? – наклонился Серёга над столом и лбом почти коснулся волос директора.
– Рад?
Данилкин отодвинул подальше Серёгину голову. И коротко глянул на него тяжело. Угрюмо.
– Да ты, Чалый. –..-..–…совсем что ли? ..–.-.–..-тут радоваться!? Проблемы нет больше, это да. Вождь сучий наш как говорил? « Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы» Прав, падла.
– Ладно. – Чалый Серёга стал ходить по кабинету. – Кто ещё знает?
– Никто. Пока я и ты. Сонька ещё будет знать. Хотя, думаю, уже сама допёрла. Я сказал, чтобы хороший ужин сделала. И что будем втроём ужинать. День у нас такой. Облегчение, – Данилкин смотрел в стол.
– Облегчение? – лицо Серёгино стало таким злым, что Григорий Ильич на всякий случай подошел к подоконнику. Может, выпрыгнуть придется. Даже одного удара от Чалого его организм не перенёс бы.
– Оговорился я, Чалый! Не то хотел сказать, – от окна директор пока отойти не решался. – Осознание, я хотел сказать. Того, что…Ну,,. Как же, мля, так? Ведь бились над этим вопросом. Ведь хотели же. Хо-те-ли! А сейчас как вроде чёрт когтями в душу впился…Честно. Ё!!! Нажраться надо, Чалый.
– Надо, – Серёга прислонился к косяку. – Инфаркт, значит. Ну, вертухаи! И не подкопается никто. Умеют, суки.
– Короче, помянем по-людски, – Данилкин тоже подошел к двери. – Пойдем, прогуляемся по улице туда-обратно. И ко мне. Соня уже, видать, закончит скоро.
Они долго, около часа ходили по посёлку. Из окон их видели многие. Но кто мог знать, какая причина гоняет начальника и лучшего советника его по совхозу? Скорее всего, думали, что не просто они гуляют. Может, задумали наконец асфальт положить и примериваются – куда , сколько и как.
Софья Максимовна встретила их улыбкой ласковой, лучезарной. Оделась она в креп-жоржетовое платье с пелеринкой небольшой и воланчиками на закругленном и приподнятым в стоечку воротнике.
– Ребятки, миленькие, не убивайтесь вы так. Лица нет ни на одном. Всё, что ни делается – так только волей и позволением Божьим. Я уже догадалась обо всем. Не дура, чай. Если взвешивать на весах справедливости ваш грех и его, то его грех ваш двойной перевесит. Покойный зло сотворил. Двойное. Самое тяжкое. Тяжелее не бывает. И вас бы, родненькие, приклеил к себе и утянул в судебную пропасть. А из неё был бы всем троим только в ад путь. А на вас-то кровушки и нет. Нет её! На нём кровь! И даже с мертвого с него не спалит и не счистит её даже геена огненная. Осеняю вас крестом и не чувствую боль в рученьке своей. Стало быть, нет греха на вас. Я знаю. Я хоть как и все под богом хожу, но поближе вас всех хожу. И волю Божью чувствую лучше остальных. Судьба такая мне выпала. Потому говорю вам: помяните его с душой. Человек ведь. Но без горя. Ибо горя он принёс больше. Чем добра.
Помяните, и забудьте.
Соня подошла к столу, налила себе наливки вишнёвой, а мужикам коньяка по полному стакану.
– Давайте, ребятушки, душой помянем усопшего раба божьего Сергия. Да простит ему Господь прегрешения его вольные и невольные.
Выпили. Мужики сели есть, а Софья Максимовна ушла в свою комнату. Еды было много. Всё вкусное. Попробовали Чалый с Данилкиным всего помаленьку. Но аппетита не было. И через час они выпили по полови не бутылки армянского пятизвездночного.
Пили молча. Думали. Мыслями некоторое время не делились и потому знать не могли, что они – одинаковые.
– Мне теперь грех свой до гроба нести. Трус я, сука! – тихо сказал Данилкин.– почему так, Серёга, скажи! Вот помер мой враг, опасность моя и погибель верная, а мне не радостно, а тошно. Почему так? Ведь враг же.
– А потому, Гриша, – пояснял Чалый. – что это ты убил Стаценко и Костомарова вынудил жену грохнуть. Стаценко убил ты, хоть нож воткнул ему в горло Костомаров. И Нинка – на твоей совести. И на моей. Мы Серёгу оба стращали, что жена его продаст, если он будет из-под её каблука пырхаться.
– Это да, – Данилкин снова налил. Выпили.
– А Костомарова убил я. За пятьсот рублей. Я убил, мля! Поддонок он, мразь. Людей убил двоих. А я тогда кто? Та же мразь! Софья твоя советует успокоиться и забыть. Ну, успокоюсь со временем. А вот забыть – хрен там. Тоже не своей рукой убил, как и ты. Но тебе легче от этого? Совесть не сожрёт?
Не, не легче, – Данилкин совершенно натурально заплакал.– Ты не поверишь. Но не хотел я их смерти. Но когда я его на убийство подбивал, так разум уходил. Я безумцем был тогда. А сейчас я сука, скотина, мразь и сволочь. Век мой остался не шибко длинным. Так вот я знаю, что пока буду жить – обглодает меня совесть начисто.
– Каяться поздно, – Чалый опять налил. Выпили, не глядя друг на друга. Данилкин на часы глянул.
– Семь часов только.
Чалый съел коляску сервелата. Взялся обеими руками за голову.
– Каяться и не нужно. Я много хренового сделал в жизни. Но не каюсь. Моя жизнь. Значит по судьбе так прописано силой сверхсильной. В бога не верю. Но то, что, как и тебе, мне чёрт когти в душу вогнал, чувствую. И то, что не лично, но человека убил, зачтется мне после. А сейчас, что делать? Я раньше и не думал об этом. Но Ирке как в глаза смотреть? Детям? Я бандитом был, вором, но мокрого не было за мной. И потому я ненавижу себя. И тебя.
– И меня! И правильно! – обнял его Данилкин. – Ты убей меня, Чалый. Это ж я вас всех кого подбил, кого вынудил. Убей меня! И тебя судить даже не будут, если всё правильно мусорам расскажешь.
– Ой, мальчики! Горюшко вы моё. Да вы ж лыка уже не вяжете! Идите вон туда. Спать ложитесь. Сергей, домой не ходи. Не надо, чтоб тебя такого свои видели.
– Прости нас, Сонечка! – зарыдал Данилкин, директор. – Прости Христа ради.
Чалый уже ничего сказать не мог. Пьян был и нервы не работали.
– Я-то прощаю и бог простит. Меня бы кто простил. Я ещё та тварь. Гадюка в облике людском.
Но мужики последних слов Сониных не слышали. Они упали на два дивана и заснули тяжелым, недобрым сном.
И в это время в окно сильно постучали.
– Григорий Ильич! Это Игорёк Артемьев. Я с поля сейчас. Беда у нас!
– Что? Где беда? Какая беда? – открыла окно тётя Соня. – Спит он пьяный. И Чалый спит. С них толку нет. Беги к агроному. К Самохину. Так что за беда ты не сказал!
– Саранча! Са-ран- ча! Туча! Сам видел! Трындец хлебу если не чухнемся!
Артемьев не преувеличивал. На поле могло быть только две беды.
Огонь с ветром по всей ниве. И саранча.
Но саранча была страшнее.
Глава двадцать пятая
***
Все имена и фамилии действующих лиц, а также названия населенных пунктов кроме г.Кустаная изменены автором по этическим соображениям
***
Таинства злые и добрые природа держит, похоже, в одном кармане и, кажется, сама не очень-то старается выбрать, какую из них достать сейчас и выкинуть нам на головы, а какие придержать для худших или лучших времён.
Многие выходки высших сил народ за века научился предчувствовать и достойно их принимать. Хоть лето красное, теплое, ласковое и урожайное, хоть ураганы, ливни, пробивающие себе ходы в надёжных как будто крышах, засуху и раннюю зиму, когда колосья хоронятся первым снегом в холодной белой могиле.
Не могут люди привыкнуть только к нежданной беде, остеречься которой или приготовиться к встрече с ней нет возможности. Такая беда всегда внезапна как инфаркт у здорового человека, но перетрудившего сердце за один раз.
Вот к таким горестным и трудно исправимым событиям отнесли люди сельские саранчу. Одно насекомое зеленого, оливкового, бурого или серо-красного цвета – совершенно милое существо. Не хуже, допустим, кузнечика, мухи или более свирепого овода. Одинокой саранчой даже любоваться можно. Вся ладненькая такая, сформулированная эволюциями миллионов лет как совершенная машинка для пружинистых прыжков и безупречного, почти птичьего полёта. Вот если бы природа не подарила ей мощнейших челюстей, непомерного аппетита и потребности жрать беспрерывно практически все, что растёт, то к саранче у народа, возможно было бы уважение как к воробьям, божьим коровкам и муравьям, за то, что они лопают вредителей разных и не портят пшеницу или просо с овсом. Но даже такой неукротимый зверь в обличье насекомого на вид хрупкого, в одиночестве не нёс опасности и даже симпатию вызывал совершенством своего тела. А вот когда из этих маленьких и, в общем- то, слабеньких с виду созданий сбивалась безразмерная, многомиллионная стая, куча или туча зверей-насекомых, которая летит неизвестно откуда на поле, заслоняя собой солнце и огромный кусок неба, – это никакая не проблема. Это беда. Горе.
В шесть часов вечера Игорёк Артемьев торчал на крайней восьмой клетке и искал меж колосьев как-то потерянные с прицепа плоские ремни на защёлках, которыми цистерны дополнительно крепились к корпусу платформы-тележки. Ползал он кругами, поскольку точного места не знал. Устал, сел на корточки и поглядел машинально на небо. То, что он увидел, заставило его забыть про ремни и со скоростью, на какую только были настроены его ноги, улететь с поля на траву, где стоял его грузовик. Из кабины, в которой он мгновенно подкрутил вверх до упора боковые стёкла, было видно, что туча чёрная, снижающаяся перед пшеницей, была не менее пяти километров в ширину. А где кончался хвост её – даже приблизительно невозможно было угадать.
– Мать твою! – закричал перепуганный Игорёк. – Это ж саранча! Сейчас рухнет она на поле и, считай, гектаров трёх зерна уже не будет к утру! Да чтоб ты подохла, скотина!
Это проклятие он выдавил из себя уже не думая, потому, что разворачивал машину к совхозу. А если бы не спешил так, то подумал бы и сразу понял, что сама саранча не сдохнет, ясное дело. И что с этой самой минуты должно быть объявлено ЧП по совхозу. После чего все до единого обязаны мгновенно мобилизоваться на настоящую войну. В ней нет пуль и бомб ни с одной стороны. Но саранча, сплочённая в трещащую сухими крыльями многомиллионную армию – враг жестокий , быстрый, злой, которому не знаком страх. А знает и чувствует он всей своей многотонной массой только голод. Страшный голод.
– Софья Максимовна, дорогая! – не переставал кричать Артемьев Игорёк. – Разбудите их. Растолкайте. Надо команду от Ильича получить на связь с авиацией. И если он сам не в том состоянии, чтобы говорить с командиром летунов, то я на машине к ним сам сгоняю и договорюсь.
– А есть чем травить-то? – заволновалась тётя Соня. – У нас урожай в этом году отменный. А за три-четыре дня такая орава съест всё. Все поля и клетки обглодает.
– Я сейчас закину инсектицид в кузов. У нас восемнадцать бочонков по десять кило, – Артемьев перебирал ногами, будто в туалет не бежал, терпел. – И поеду. Пока самолёт снарядим, надо своими силами шугануть саранчу. Уже делали пять лет назад. Получилось же! А летуны только с утра смогут облить поля. Ночью не полетят.
– Откуда эта тварь взялась? – из окна высунулась голова Чалого Серёги. – Вот жизнь, бляха! Не понос, так золотуха. Тётя Соня, Ильича будите.
– Сам я поднялся, – Данилкин крикнул из комнаты. – Большая стая?
– Огромная, – Игорёк Артемьев сделал ужасное выражение на лице и широко расставил руки. – Километров пять в ширину. Плотность – неба не видно. Толстая туча. Сколько за первыми летит – не видно. Но километров на пятьдесят стая точно растянута. Не меньше.
– Вот и поухаживали за хлебушком, – грустно сказал Данилкин, директор. – Чалый, коньяка по стакану налей. Похмелимся, тонус вернём и побежим командовать.
Чалый Серёга просьбу исполнил секунд за пятнадцать. Выпили. Покурили минуту. Стало легче.
– Ильич, ты вяжись сейчас на их частоте с командиром авиаотряда. – Чалый погасил окурок о подошву и в карман сунул. До пепельницы далеко было идти. – Скажи, что отраву сейчас привезут. Пусть затариваются на утро. А я побежал к Кравчуку Толяну и к Валечке Савостьянову. Они поднимут Алпатова и Копанова. Потом все вместе поднимем весь совхоз. Лёхе Иванову с МТМ я скажу, чтобы все девять грузовиков, которые не на ремонте, шофера к конторе подогнали.
– Людей всех поднимай! – Данилкин протянул назад руку, в которую Софья Максимовна вставила наполовину заполненный стакан с коньяком. – Пусть Лёха бежит сперва в радиорубку и через все динамики тревогу объявит. Народ пусть берёт с собой всё, чем греметь можно. Кастрюли, тазы, корыта и железные колотушки. Поварёщки, молотки, топорики, арматуру. В общем всё, что гремит. Чтоб своим ушам даже было больно. Короче, всё то же, что и пять лет назад. Тогда прогнали почти всю к утру. И сейчас с верой в коммунизм и в идеи партии мы её, собаку, тоже с полей выпихнем.
– Разъехаться только надо правильно! – крикнул на бегу Чалый. – Если она километров пять в ширину летела, то опустилась и прихватила не больше двух. Они скучиваются сперва, а потом разбегаются уже. Должны успеть.
– Ты, Игорёк, дуй на склад, загружайся и мухой к лётчикам, – махнул ему рукой Данилкин, директор. – Я сейчас с командиром договорюсь и скажу, что через час ты будешь у них.
– Вот горе-то какое, вот же напасть не вовремя.– Утерла рот платочком Софья Максимовна.
– Это не горе. Не беда, – Данилкин переставил частоту на рации. – Горе было с утра, да прошло. Загасили мы его армянским… Мы его коньяком заглушили крепко. Но совесть всё одно дёргается, волнуется.
– Спасибо скажи, что она у тебя вообще есть, – сказала жена и ушла в комнату. – Другой бы порешил волей своей троих, как мы с тобой, и песни бы пел весёлые. Потому, что пусто у него в душе и на месте совести хрен вырос.
– Ну, да, – Данилкин с похмелья настроил рацию не без труда. – Я этого себе не прощу. Точно говорю. Это мой камень на сердце. До конца жизни.
– Дурак ты, Данилкин, – спокойно сказала Софья Максимовна из недр большого дома. – Передо мной-то в ярмо не запрягайся. Страдалец. Живи, не тоскуй. Их жизни не стоили ничего. Подлые были людишки. Царствие им небесное…
– Вася Лапшин, Данилкин на частоте .Ответь. Вася, Данилкин вызывает! Приём!
– Я тут, Гриша! – прохрипел командир отряда. – Что там у тебя? Не долили гербицид, что ли?