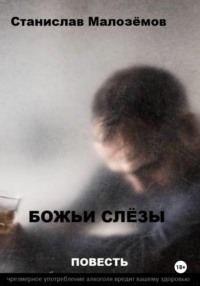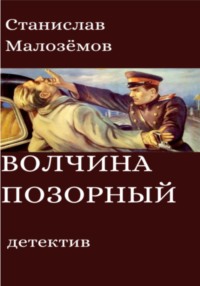полная версия
полная версияПолная версия
Вести с полей
– Где машина твоя, Гриня? Надо уже рассредоточиться на полигоне и ваять нетленное и неповторимое, – почти трезво и без торможения на сложных словах пропел Моргуль. – Я за себя сей момент так скажу, что мне в дурдоме ужо пять лет прогулы пишут. Это ты, дурбецало, меня на водяру наказал! Я и хлебал эту ханку с тоски одиночества. Сознаёшь, шлимазул, промах? Или по Вам не будет? Ладно, сам с себя малоумного сделал. Если человек адиёт, так это надолго, а если поц – так навсегда. Спасибо папе с мамой, что я адиёт, но не поц. Значит счас ветерком обдует и опять я буду как юный, полный желаний и мастерства. Всю жизнь с шухера выходил гусём гордым. С голоштанного детства даже в зусман вылетал расхристанным через парадное с фонарем на двор, где соседи трусили ковры и сохнули белье, а ихние кинды и мои, блин, сверстники катали в маялку, пожара, жмурки и, чуть что, хипишились: «Шухер!». А я дико извиняюсь – шухер и гордый гусак – оно совсем-таки две большие разницы. Не кипяти нервы и береги мозги для инсульта, если их в тебе осталось, всех трех параллельных извилин. Вот помимо них лично я – гусак. Меня этой водкой со шнифтов не собьешь. Короче – получи, фашист, кастетом от русского мальчика Зямы. Пошли работать на искусство!
Поскольку Данилкин мало чего понял из длинной Сёминой пьяной речи, то уцепился за самую последнюю фразу, взял Семёна Абрамовича под руку, Витёк под другую, и зигзагами двинулись они пешком с целью проветривания Сёминой головы пёхом на клетки. Туда уже через час прибудет вся тракторная армада. А работник художественного фотографического искусства к тому времени вновь обретёт покоцанные водкой признаки высокого таланта и как всегда будет подготовлен только к созданию шедевра.
***
Но какой был полдень двадцать девятого апреля! Его будто заказал кто-то за очень большую цену, как заказывают в ресторанах ухари, жизнь прожигающие на ворованные деньги. На их стол смотреть и больно, и завидно. Скатерть белую таким изобилием нагружают официанты, которое называется только по-французски или по-итальянски, а выглядит как выставочный стенд великих шеф-поваров. Названия блюд повторить почти невозможно, да никто и не пытается. А нормальному человеку раздерибанить вилкой такое творение искусства – совестно и жалко. Вот и полдень такой же был. Неповторимый и ни на что не похожий. Солнце гладило землю тёплым светом своим, в котором переливались дрожащие в воздухе бабочки, купались как в голубой луже после дождя разномастные птицы и нежилась под лучами его земля вспаханная, уже готовая показать солнцу первые ростки пшеницы. Просто восхитительный был полдень. Ни тебе теней от огромных машин и маленьких людей, ни косых красноватых бликов на кочках, стеклах тракторов и лицах пахарей. Сплошная благодать. Яркая и радужная.
– Э-э… – уныло протянул фотокорреспондент Моргуль Семён Абрамович. – Тут таки я не спою для вас свою арию как вкусный борщ! На цугундер, конечно, возьму, сниму помалу, но в такой работе не будет цимуса! Против солнца, пока оно не спадет с зенита, я хоть и кину брови на лоб, но бесплатно. Не будет феерии и эпохального кадрика.
– А чего вообще? – робко возмутился Олежка Николаев. – Все в строю. Трактора с мылом помыли. Сапоги вон наваксили и натёрли. Сами как солнце блестят. Чего не хватает вообще? Не пойму ни хрена!
Чалый услышал разговор, привинчивая к своему трактору на капот красную жестяную звезду. Подошел.
– Чё, Абрамыч, лишку хряпнул? Не видишь объектов приложения сил творческих? Вон, гляди, какую мы тебе показуху замастырили! Как для Брежнева. Он бы оценил, не капризничал.
– Не, правда, Сёма! – Данилкин на корточки опустился. – Светло, красиво, блестит всё. Давай сделаем. А то я и баньку распорядился нагреть, чтоб до костей прохватило.
– Ну, здрассти! – Моргуль снял с себя все аппараты, мешочки, экспонометры и на пашню аккуратно сложил.– Если б мне припёрло тут снять с вас жирок и шкварки, то таки да. Я бы почумил тут как попало и зробив на шару. Разве для нашего человека есть чего-то невозможного, когда за это платят бабки?
Так я, Гриня, не за бабки к тебе завинчиваю. Хто так скажет: дайте этим детям соски и нехай они заткнут себе рты! Я делаю свой гешефт на моём удовольствии от моей гениальности. Вы хочете песен? Тогда ждём все – когда солнце склонится на четыре часа. Полдень – это ж для пленки не цимус. Это ей как мне самогону три литра через лейку залить. И получится, что мне с этой пьянкой и стакан вина выпить некогда.
– Ждать надо? Солнце не там висит? – спросил Данилкина Валечка Савостьянов.
– Ну, – Данилкин, директор, вытер под кепкой наполовину лысую голову и бросил короткий взгляд в зенит. Зажмурился и засопел. Он планировал после съёмок культурно-оздоровительную программу и переживал, что она отложится неизвестно на сколько. Витёк, корреспондент, достал блокнот, взял за рукав Кравчука Толяна и увел его в сторонку. Интервью брать у передовика. А Володя Самохин, агроном арендованный, подошел сзади к Данилкину и одно слово на ухо сказал.
– Отойдем?
Когда они удалились метров на тридцать от общей группы, Самохин поинтересовался.
– А Моргуль всегда так разговаривает, или только когда пьяный? Я половины не понимаю, но говорит красиво, колоритно. К нам-то он редко ездит. Дутов же собственного фотографа высшей марки из Москвы на пять лет выписал. А тот живёт уже все десять. Так Семён Абрамович какой диалект нам так красиво демонстрирует?
– Вова, он же одессит коренной, старый, – Данилкин засмеялся и по шеке себя стукнул. Видимо, и комары долетели сюда с озера.– Он всегда так говорит. И на работе, и дома, и в гостях. Сёма в войну после эвакуации опять в Одессу- маму вернулся. Так летом в сорок четвертом из-за границы наши офицеры часто в Одессу приезжали. Из разных стран. Ну, оттуда, где воевали. И везли всё, что в загранке под руки подворачивалось. Приёмники, бритвы электрические, фотоаппараты. Вот Сёма как-то с ними повязался. Сперва себе набрал отличную технику. «Цейс», например. Идеальной просветлённости объектив. Ну, а потом спекулировать начал фотокамерами. В сорок пятом его отловили на этом деле, судили. Ну и приговор был не шибко злой. Три года лагерей в Казахстане. Отсидел и остался в Кустанае. Сперва в «Жилкоммунхозе» фотомастером пристроился. Потом в газету «Сталинский путь» карточки свои стал носить. Везде снимал после работы. Город, Тобол, людей в труде и на отдыхе. И через пару лет его взяли фотокорреспондентом. После смерти Сталина газета называлась уже «Ленинский путь». Сёма позвал из Одессы дружка своего Яшу Зусмана. Тот писал толково. И так прижились у нас ребятки. Сейчас постарели оба. Но они – коренные Одесситы. Родом ещё из той старой Одессы, где еврейско-одесский говор был уникальным и неповторимым. С юмором и с непревзойдённым, оригинальным шармом. Так что, Семён Абрамович сейчас не выпендривается. Он так живет. Это его родной и дорогой ему язык. Вот так, примерно, Вова.
– Надо же! – почесал затылок Самохин. – Красота-то какая. Не язык, а пение жар-птицы!
– Песня одесских соловьёв! – Данилкин шлёпнул себя по щеке ещё раз. -Откуда, бляха, комары? Ну, пошли обратно.
Все трактористы, сеяльщицы, девушки с борон и шофера залегли кто куда. Как-то разыскивали под машинами или делали тень из брезентовых кусков да ложились вздремнуть. Моргуль достал из большой кожаной сумки, где лежали фотокамеры, соломенную шляпу, лег на спину и накрыл шляпой лицо. До начала великой имитации трудового героизма оставалось часа три времени. Можно было всё это время настраиваться, делать солидное выражение лиц, обветренных и строгих. А можно было и хорошенько вздремнуть. Что все, включая Данилкина, с удовольствием и выбрали.
Директор примостился к боку Семёна Абрамовича и тихо сказал.
– Ты, Сёма, тоже поспи часика три. Работы-то много.
– Знаещь, Гриня, а я в отпуске был в феврале. Редактор единственное пустое время таки нашел под меня. Да шоб я так был здоров! И я, ты знаешь, зимой не поехал в Одессу. Мне больно не иметь видеть живых каштанов. Я… Это…
В Москву с внучкой… Да…Мавзолей ей смачно показал. Где я и сам имел видеть того вечно живого Ленина таки да в гробу.
После этих слов, растянутых минуты на три, он сонно опустил руку Данилкину на грудь и провалился в сон, который и водку из души на жаре вытопит, и на дело настроит как хороший камертон знакомого скрипача Одесской филармонии Лёвы Фраермана..
***
Да и не так уж лениво проскакали часовые и секундные стрелки по кругу на часах прикорнувших деятелей искусства и сельского хозяйства. Удивительно, но случайному прохожему, которого, конечно, и придумать-то трудно в это время и этом месте, было бы в тиши безветренной как шуршат механизмы часов «слава», «победа» и «ракета». Шуршат и напоминают шелест колосьев пшеницы, который скоро уже начнет шевелить воздух степной.
– Батальон, подъём! К бою! – так закричал в командирском голосовом регистре Григорий Ильич. Директор Данилкин. Он уже возвышался над полёгшими телами, крутил кепку козырьком назад, то есть в рабочее положение, и крутил телом, разбросив руки. Разминал позвоночник и прочие кости.
Из-под тракторов, сеялок, накрытых брезентом, стали выползать крестьяне полусонные, вываливались из кузовов автомобилей, тоже прикрытых пологами из плотной серой ткани «туальденор», которая не давала на посевной семенам сыпаться в грязь на кочках.
– Сёма, надо работать начинать, – Данилкин стал нежно колыхать туда-сюда пухленькое тело мастера фотодела.
– Ша! – с трудом возвращаясь в действительность, проборомотал Моргуль Семён Абрамович. – Смачное на всех утро, хотя и вечер! Шоб мы все так были здоровы. С работы кони дохнут, но дешевле для здоровья не знать за эти мансы.
Он поднялся. Зевнул глубоко. Нацепил на себя всю утварь свою техническую и поманил к себе пальцем Серёгу Чалого и Артемьева Игорька.
– Рации мают все?
– Все, – приложил руку к козырьку засаленной кепки своей Игорёк.
– Тогда кидаем балабонить и суём по стременам свои больные ноги. Я поеду на том трёпаном лимузине в кузове. И всем в рации слухать, чего я несу вместо молчать и фотографировать. И шоб никто не прикидывался тут большим мастером предсказывать погоду на вчера. Дядя Сёма сам знает, что таки да, а что голимый геволт. И шоб по ходу дела не перечить! Всё будет в темпе вальса, если никто с вас не захочет побежать впереди тротуара. Просто распустите уши веером и слухайте дядю Сёму и его друга Григория Ильича, вашего паровоза.
Данилкин отвел его к машине и с шофером вместе завалили Моргуля в кузов.
– Давай, езжай вперед и стань за километр по центру пашни задом к солнцу. Чтобы Семен Абрамович солнце чуял только затылком.
Машина тронулась и, скрытая поднявшейся пылью, пропала с глаз.
– Чалый! – Данилкин закурил и крикнул в рацию. Прибежал Чалый Серёга. -Ты с Витьком корреспондентом разворачивай трактора со сцепками сперва в одну шеренгу передками на солнце. А Сёма будет с машины командовать, каким тракторам вперёд податься, а каким отстать и на сколько метров. Говорить он будет мне, а я тебе. Ты – Витьку. Сам сиди в тракторе и будь на связи. Витёк пусть вот эту рацию возьмёт и бежит на дальний фланг шеренги. Ты команды даешь ему. Понял?
– Так точно!– Чалый схватил вторую рацию и рукой помахал Витьку. Тот подбежал, рацию взял и, спотыкаясь, унесся к концу шеренги.
И пошла работа. Моргуль истошно орал директору, Данилкин Чалому, а Серёга всем остальным. Армада тронулась. Начиная справа, трактора, отставая друг от друга на десять метров, скоро образовали ровную линию по диагонали. Первый правый трактор был почти рядом с машиной фотографа, а остальные с шагом в десять метров отдалялись от объектива. Последние пять сцепок от фотографа удалились почти на километр.
– Шо вы кипятитесь, как тот агицин паровоз? Давайте плесните у рот холодного компота и выпустите пар из ушей! Мы делаем картину маслом, а не битву за Жмеринку! – Кричал Моргуль директору. – Пусть шевелятся как покойники. Не надо мне тут делать цугундер и олимпийские игры! Это наша общая бранжа, и мы таки её за сейчас сделаем!
Данилкин переводил всё сказанное Чалому, а тот по рации выравнивал строй, кого-то приближал, кого-то отдалял. Витёк прятался за последний трактор, чтобы не светиться в объективе и тоже по рации доводил строй до того совершенства, которого требовал Мастер.
– Всё, хватит с вас морочить мою полуспину! – подал решающую команду мэтр фотографического искусства. – Эх, шобы я не дожил до умереть! Теперича без лишнего шороха все грустно, как на свадьбе у зубного техника, кудою-сюдою-тудою кандёхаем медленно прямо на мои розовые щёчки. Это последнее, що я имею вам сказать.
Данилкин перевёл. Дальше по цепочке сработали все рации и скошенная колонна медленно двинулась вперед, прямо на стоящий боком грузовик. Мастер Моргуль высился на кабине и, прикрывая ладонью объектив то слева, то справа, ловил в кадр медленное движение, поднимавшее позади сцепок лёгкую пелену пыли, которая не перекрывала соседние машины, но создавала ощущение быстрого, мощного движения. Он щелкал беспрестанно. Приседая и ложась круглым животом на горячий металл, поднимая камеру над головой, становясь вбок на самый край кабины, опускаясь в кузов и спрыгивая на капот.
– Вот так! Первый сеанс отхихикали таки! – Моргуль сел на кабину и говорил в рацию Данилкину, хотя слышали все. – Шоб я до конца жизни пытался поднять такую самашечую тяжесть, как собственную пуцьку.
– Перерыв! – крикнул всем директор. – Вернулись на исходную и заглушились на пятнадцать минут. Потом ещё ходка. Может, последняя.
Над пашней стало так тихо, будто кто-то сверху выключил на всей Земле звук. И только минут через пять все услышали как трещат молодые кузнечики, чирикают воробьи и матерится Артемьев Игорёк, которые неудачно соскочил с гусеницы и порвал штаны от задницы до сапога.
Кто рядом был, засмеялись. Остальные не знали, над чем веселятся соседи, но тоже расхохотались.
Потому, что у них было целых пятнадцать минут тихого весеннего отдыха.
Глава двадцатая
***
Все имена и фамилии действующих лиц, а также наименования населенных пунктов (кроме г.Кустаная) изменены автором по этическим соображениям
***
Вечер двадцать девятого апреля шестьдесят девятого года в истории совхоза Корчагинский отпечатался как след ноги случайно сунувшегося в незастывший цементный пол мужика. Намертво, отчетливо и навсегда. Дядя Сёма Моргуль завершил свою фотографическую экзекуцию. Четыре раза гонял тринадцать тракторов со сцепками вперёд-назад, снимал с машины, с земли, с кабины одного трактора и очень печалился, что не мог щёлкнуть кадрик-другой с высоты полёта хотя бы птицы вороны.
Потом он истязал отдельных передовиков, заставляя их красиво выглядывать в простор из кабин, приставлять ребро ладони к глазам и прищуриваться, глядя в неосвоенную даль. Сфотографировал фальшивый обед трудящихся на большом капоте «сталинца», улыбающихся тёток, радостно высыпающих семена из мешка в бункер дозатора, а также вытирающего рукавом пот с грязного лица Кравчука. Кравчук Толян натурально-то был вполне чистый. Поэтому Моргуль Семён Абрамович слегка припорошил лицо его пылью с пашни и брызнул на пыль водой изо рта. Воду набрал из бидончика Олежки Николаева. В общем, здорово всё получилось. Трактористы и сеяльщицы от пустопорожних метаний туда-обратно чуток придурели, но в целом остались довольны и громко выражали благодарность маэстро фотоискусства разными приятными восторженными словами.
После чего трактора медленно поползли на МТС, а всё начальство плюс Чалый Серёга, Моргуль и Витёк в кузове грузовика поехали в баню, где кроме долгожданного целительного пара ожидали их и ужин сытный, и водка холодная, и веники березовые, в ближайшей уральской деревне купленные ещё в прошлом году. Парились долго, ели часто, пили лихо. Уж время к полуночи прислоняться начало, а банный пир только рацвёл, раздался вширь и вглубь, и перебрался в ту стадию, когда никому никуда не надо, когда нет в мире больше ничего, кроме дружества неразлучного, скреплённого водкой, общими разгоряченными выкриками- «А ну, поддай ещё на каменку!» и анекдотами, воспоминаниями весёлыми о жизни нелёгкой и пьяными шутками о руководстве власти советской и лично о Леониде Ильиче Брежневе.
– Шо? Так плохо живете, что только в одной руке сумка? – запивая «столичную» лимонадом веселился маэстро дядя Сёма. – Так Генеральный Ильич с вас смеётся, с гопников. «Шо вы, говорит, хочете с под меня, когда вас тут вообще не стояло? Вы сперва ноги помойте, а потом педикюр делайте. Или вы вообще все уходите, слава богу, или остаётесь, не дай бог? И не надо меня уговаривать, я и так соглашусь. Мне всё равно, лишь бы да!»
Все укатывались, захлёбывались смехом, хотя в одесские намёки «Леонида Ильича» не врубались вообще. Один дядя Сёма, возможно, понимал, что нёс.
Ночью поздней, часа в три, наверное, фотограф Моргуль выпил ровно столько, чтобы поиметь жгучее, непреодолимое желание уехать в Кустанай и немедленно проявить там плёнки.
– Так редакция же закрыта ночью, = робко возразил желанию шефа корреспондент Витёк, который пил только лимонад и к этому времени окончательно разошелся со всей бригадой в состоянии тонуса, восприятия реальности и способности разделять возможное от ненужного.
– А почему нет, когда да? – возразил Семён Абрамович и зигзагами пошел в парную. – Шо то мне не нравятся за Ваши намеренья. Вы шо тут круче Яшки Косого стать хотите? Учтите местные контрасты. Качать права – вам здесь не тут…
– Да довезет его Фёдор мой, – Данилкин, директор, снял с вешалки пиджак, достал из кармана рацию и разбудил шофёра. – Фёдор, подъезжай к бане. В Кустанай поедешь с фотографом и…
– Нет, я-то останусь. Встрепенулся Витёк, корреспондент.– Я договорился с Айжан Курумбаевой. Завтра с утра до вечера с ней в поле буду. На очерк материал набирать. Сам пусть едет.
– У меня переночуешь, – сказал Чалый Серёга. Утром тебя к ней отвезу. Потом с ней на клетки поедешь. На «Кировце», бляха! Больше ни у кого нет. Только у Айжанки. Но она того стоит. Лучше неё не найдёшь тракториста в округе.
Дядю Сёму за полчаса одели, навесили на грудь и бока всё его навесное оборудование, нежно вывели под руки к ГаЗику, ещё минут десять размещали его распаренное, пахнущее водкой и берёзовым веником тело, пообнимались, по очереди ныряя на половину туловища в кабину, после чего Моргуль помахал всем рукой и сказал прощальный тост, запить который ему поднёс в маленьком стакане парторг Алпатов Сергей.
– Давайте ходить друг в другу в гости. Вы к нам на именины, а мы к вам на похороны!
Все похлопали в ладоши и Моргуль закрыл дверцу, выбросив пустой стакан в руки Данилкина. Машина заскрипела, ощетинилась светом мощных фар и рванула в темень, помахивая на прощание красными габаритными огнями на неровной дороге. Без Семёна Абрамовича банная ночь потеряла стержень и смысл к продолжению самоистязания. Все ополоснулись, оделись, хлебнули по соточке на посошок и разошлись.
Расползлись, точнее, по домам до начала нового дня, который приблизит население совхоза вплотную к празднованию международного праздника солидарности трудящихся! А в нём будет много торжества, речей, демонстрационных проходов с флагами и портретами членов политбюро, а также музыки, песен патриотических, веселья и водки, объединяющей восприятие праздника, горячие сердца и ещё не потухшие в глуши, пылающие любовью к Родине чистые советские души.
Чалый утром растолкал Витька примерно в семь. Три полновесных часа повезло Витьку вздремнуть. Но парню только прошлой осенью стукнуло двадцать, он был спортсменом разрядником и сил для экстремальных напряжений имел в достатке. Три часа сна или семь было – организм пока не улавливал различий и вёл себя как положено. То есть, работал как швейцарские часы.
– Сейчас позавтракаем и поедем, – Чалый пошел к буфету за чашками.
– Не, сразу поехали. Мне дня не хватит. Завтра надо отписаться. В праздник. И сдать в читку второго. Редакция второго работает.
Через пять минут они прыгнули в трактор Серёгин и, пугая лениво переходивших дорогу ночных охотников-кошек, довольно быстро добрались до большого дома, где жила Айжан с мужем, двумя детьми и больными родителями.
– Привет, Витя! Привет, Серёжа, – Айжан Курумбаева несла в дом ведро воды из одного конца огромного двора в противоположный. Она уже оделась в спецовку, перчатки шерстяные надела зачем-то, а на голову бежевую лыжную шапочку. – Сейчас поедем. Ты, Сережа, отдыхай. Мы теперь сами. Да, Виктор? Я только ведро занесу последнее. Мама детям стирать будет.
И она быстро поднялась на крыльцо. Дверь была открыта. Маленький ребенок плакал. Бабушка и девочка лет пяти его уговаривали непонятными Витьку казахскими песенками. На самой середине двора как второй дом возвышался трактор «кировец». Новая, желтая громадина с герметичной кабиной, огромным топливным баком за кабиной и колёсами почти в Витькин рост. На такой машине Витёк не то что не катался никогда. Он и видел-то её пару раз всего. Их с шестьдесят девятого на Путиловском заводе в Ленинграде только начали выпускать, а потому и по всему Союзу-то их немного ездило, а в Казахстан пока дали штук пять-шесть. Правда Айжанке, как передовой женщине-трактористке и лучшей среди лучших на целине, трактор вручили прямо на заводе. Именной получился трактор. Она за ним летала в Ленинград, речь благодарственную произнесла, ключи и документы взяла из рук Генерального директора завода. Но ездить-то на нём и не пробовала. Потому поехал её К-700 на платформе по железной дороге до Кустаная. А с вокзала специально посланный специалист заводской пригнал трактор в Корчагинский. С Айжанкой на боковом сиденьи. По дороге они съехали с трассы и по бездорожью она сама проехала километров семьдесят. Ездить вроде бы сразу и научилась. Оставалось только саму машину выучить и как работать с навесным оборудованием, которое ой как сильно отличалось от привычного, которое на родных МТЗ, и ДТ стоит. У «кировца» оно и тяжелее вдвое, и гидравлика подключается по-другому. В общем, месяц Айжан Курумбаева крутилась вокруг трактора и под ним лежала с чертежами и техническим паспортом. И, что хорошо, была она умной и вникала в тонкости новой машины почти сразу. Витёк всё это знал и помнил, потому, что писал о Курумбаевой уже два раза. А теперь вот задание получил: сделать большой очерк о об уникальном таланте молодой женщины, который позволял ей непонятным образом обходить на пашне самых известных передовиков со всей области. Ну и, как положено в очерке – не писать только о подвигах, а и человека показать, душу Айжанкину раскрыть, показать её в быту с хорошей стороны.
– Чтобы народ перестал думать, будто передовик только в поле и живет как суслик, – сказал главный редактор. – Живого надо больше. Семья, дети, родители, муж. Полный рот забот. А она и дома молодец, и в труде – всем ребятам пример.
Вышла Айжан, муж её Нурлан с дочкой. Он нёс в одной руке пятилетнюю Маржан, а в другой большую сумку с едой, водой и айраном. Айжан любила домашний кефир и муж привозил его раз в неделю из райцентра. Флягу целую.
– Ты ел утром, Витя? Спросил Нурлан, укладывая сумку позади кабины, чуть в стороне от бака с соляркой.
– Пока не хочу, – Витёк помог приладить сумку понадёжнее. Чтобы не соскочила на кочках. – Мы же будем сегодня нетронутую землю распахивать под озимые? Данилкин сказал, что корчагинскому недавно ещё сто гектаров дали чистой степи под распашку.
– Дали, – без радости ответила Айжанка. – Посмотришь, вроде много земли. Большая степь. А жалко. Ковыль там. Суслики, полёвки, змеи и фазаны. Зайцы бегают. Лисы приходят из дальних лесочков. Даже волки степные есть тут. Теперь им негде жить будет. Уходить надо. Куда уходить? Степь живностью разной заполнена. У каждой норки кусок земли свой. Воевать будут, грызть друг друга. А мы, один чёрт, всю землю под себя не подгребём. Она против будет. И нам ответит. Но не добром, конечно. Отомстит.
Витьку слова такие странно было слышать от человека, чьей заботой было сделать так, чтобы вырастить для людей как можно больше хлеба. И он опустил глаза. Не стал комментировать.
– Ты, Нурлан, маму сегодня отвези в район, не забудь. Ей на приём сегодня в двенадцать к хирургу. Насчёт вен на ногах. Олжаса покорми. Я молоко в теплой воде оставила. Четыре бутылочки. Хорошо? Поедешь с мамой, детей не оставляй. С собой возьми. И отцу не забудь укол поставить. Кашель вроде поменьше стал. Но ещё есть воспаление.