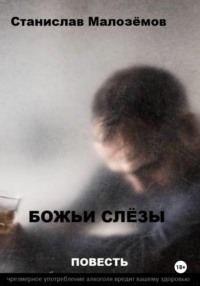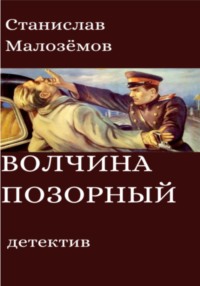полная версия
полная версияПолная версия
Вести с полей
– Тогда и не накладно бы было. С каждой зарплаты помаленьку. И баба могла удовольствие получать не раз в год. Вот я сегодня всю заначку грохнул. Хорошо, с одной стороны. Много купил. Неделю разбирать будет. Но заначке – хана. Ружьишко собирался к лету купить. «Белку». А ты, Кирюха, чего один флакончик «Красной москвы» взял?
Мостовой Кирилл отвернулся.
– Я поварихе Вальке Завгородней подарю. Клинья к ней подбиваю. Но сразу много не по уму будет дарить. Не так поймёт. Да и не заработала ещё. А моей лошади пусть любовничек дарит хоть полцарства зараз. Игорёк Алипов из «Альбатроса» У них с ней любовь. А у нас с ней разруха.
Чалый, Николаев Олежка и Толян Кравчук промолчали. Да они просто говорить не моги. Груженые шли. Из-за коробок и свёртков их самих и видно не было. А Артемьев Игорёк одну авоську даже в зубах держал. Много накупил. Хоть и не было у него ни жены, ни тёщи, ни сестёр. Зато подружек совсем не требовательных, но верных, имелось у Игорька столько, что праздник восьмого марта был для него одновременно и радостным днём, и траурным. После него он каждый год месяца три жил взаймы и долги раздавал.
Но всё равно всем было перед праздником хорошо. Доказательств любви к своим любимым и уважения к чужим уважаемым купили они прямо-таки по- купечески. С почтительным перебором.
***
А утром восьмого тишина такая зависла над совхозом, будто бросил народ жильё своё и массово сбежал туда, где тепло. На юг, в Сочи, например. Где уже так тепло, что попеть-поплясать в праздник великий будет веселее в тысячу раз. Правда, собак с собой народ не взял. И тявкали они на разные голоса, иногда скуля и подвывая, но тишина почему-то от этого не страдала. Поскольку оживить её могли только голоса людские. А вот они-то как раз звучали торжественно за стенами, окнами и плотными дверьми. С утра пораньше мужики вытаскивали из потаённых мест свои коробочки и свертки, разворачивали подарки и несли вручать. При этом сопровождали они священный процесс дарения бесценных в такой день безделушек изощрёнными клятвами. Женам, дочерям, а некоторые ещё сестрам или мамам, приехавшим в гости. Клятвы содержали вольный текст о неиссякаемой любви, верности и готовности при случае головы сложить за своих любимых. Пока женщины, примеряли одёжку модную, всякие цепочки с медальонами, бусы из жемчуга или включали в розетку «чудо-печки», сильный пол откупоривал марочные вина, шампанское и разливал это добро по хрустальным фужером. Хрусталь был явлением уже не выдающимся, имелся в каждом приличном доме и его на праздники не дарили. Просто так покупали, мимоходом. В доме процветал праздничный дамский восторженный визг, крики типа: « Ну как же ты угадал, что именно это я и хотела?!» или «Ой, Вася (Вова, Серёжа, Миша, Коля и т.д.) зачем же ты так потратился, дорогой!» И раздавались ответные сдержанно-довольные мужские покашливания и самые подходящие настоящим мужчинам нежные ответы: «Да, ладно. Нормально всё, чего там!»
Но много не пили и закусывали символически. Потому как основное чревоугодничество, объятия с Бахусом и расстёгивание души нараспашку намечалось на шесть часов вечера в большом конторском актовом зале.
Весь совхоз, конечно по любым праздникам в кучу не собирался. Не ходили на торжественные мероприятия блатные из строительных бригад, Спившиеся до неузнаваемости и полной ненужности бывшие комсомольцы не являлись, которых судьба перекинула с тракторов и от станков в МТС на подсобные работы. Не приходили женщины, разочарованные целинной житухой, неожиданно оказавшейся тяжелой. Им и обратно лень было сматываться, и от общественной жизни их воротило. Сидели по хатам, если замуж не выскочили. На работу автоматически ходили. С работы в магазин, да обратно в хаты. Были и семьи, замкнутые и нелюдимые. Почему – никто и не спрашивал. Ну, и ещё всякие приблудившиеся, неизвестно откуда и зачем поселившиеся в «Корчагинском» ребятки да девки от двадцати до тридцати лет. Тоже жили потаённо. Данилкин их расселил по четырём общежитиям, работу давал временную и недорогую. Ничего, работали, не сбегали. Видимо, и появились тут, потому что уже сбежали один раз. Из ближайших и не очень близких деревень.
Вот они тоже не дружили ни с кем и незаметно существовали в той части села, где блатные обитали, беглые, спившиеся до безобразия граждане и бирюки нелюдимые. Чалый Серёга с Толяном Кравчуком как-то просидели целый вечер в подсчётах не влившихся в совхозное содружество людей. И насчитали их больше тысячи. А в хозяйстве народа числилось всего немногим больше двух тысяч. На работу отшельники ходили, но вся общественная жизнь обтекала их как островок на широкой речке. Тем не менее, мужики в теплице кустанайской да на базаре у грузинских торговцев всем отшельницам купили по семь тюльпанов и Валечка Савостьянов с Артемьевым Игорьком развезли их дамам, отбившимся от коллектива, поздравили от имени директора и в щёчку каждую чмокнули. Долг мужской праздничный отдали.
А вот в шесть часов, когда солнце уже не так торопливо заваливалось за край земли, почти засветло ожила деревня. Визжали дамы и дети малые, хрипло заливались хохотом от полуприличных шуток мужики, играли баяны, гармошки, единственный на селе аккордеон и десяток гитар. Бесились цепные собаки во дворах от шума нежданного и отдельные группы пели песни на ходу. Песни были разные и от этого шествие празднующих к полному еды с питьём актовому залу чужой взгляд мог бы воспринять как массовый добровольный исход всех местных сумасшедших в совхозный дурдом. Но чужих тут сроду и не было. Разве что комиссии редкие, да шоферы с кустанайских продуктовых складов. Потому возбуждались все весельем общим, праздничным, без оглядки, стеснения и соблюдения норм общественного поведения. Орал, как кто умел, ржали похоже на коней, гонялись друг за другом, валялись в слежавшемся мартовском снегу и перекликивались, как в дремучем лесу:
– Эй, Ванька Михайлов, ты самогон-то прихватил? А то в актовом зале только сок виноградный, да лимонад «Дюшес»! Я три пузыря несу!
Юмор этот тонул в хохоте дамском и мужских очень остроумных выкриках со всех сторон:
– Если Данилкин унюхает самогон, то мы на себя вину не берём! В женский день самогон – оскорбление и преступление средней тяжести. Лет на пять в Магадане.
– Восьмого марта Данилкин разрешил пить только компот и сок. Чтобы хоть один день свой законный тётки отметили как праздник. А то ж нас домой они на горбу должны потом нести. Считай, праздника у них и не было.
– Эх, бляха! Надо было тогда дома хоть поллитра заглотить!
Так и добежали до конторы, разделись в фойе. Красивые все. Мужики в костюмах. Возле лацканов у кого по медали висело, а у кого и по три. На пиджаке Серёги Чалого столько разного «железа» блестящего было приколото и привинчено, аж пиджак скособочился. Женщины оделись, как на приём в Кремле. Шикарные, по целинным меркам, вечерние платья прелестно сидели на их чудом не исковерканных работой фигурах, лакированные туфли на тонких каблуках вынимали они из маленьких сумок, обувались в них осторожно и неумело. Отвыкли. Серебром, золотом и жемчугом обмотали дамы шеи свои, ещё молодые, без морщин, Перстеньки, конечно, нацепили с разнообразными камешками. И естественно, удушливо, но солидно источали вокруг ароматы почти не смываемых духов «Красная Москва», «Пируэт» и «Вечерняя звезда».
Вот когда запахи эти смешались в одно невидимое, угнетающее волю облако, и когда вышел из распахнувшейся двери зала торжеств директор Данилкин с криком:
– Желаю Вам, дорогие мои труженицы, огромного личного счастья и мира на всей планете. Прошу всех к столу!
Вот тут-то и началась счастливая, разнузданная и в конце почти неприличная гульба праздничная, скатившаяся часа через четыре до стандартной пьяной вакханалии, посвященной прекрасной половине созидательного советского человечества.
– Примите от дирекции, партийной и профсоюзной организации совхоза скромный памятный подарок! – встал на стул низкорослый парторг Алпатов Виктор.
– Пусть он знаменует наше глубокое уважение к вашей красоте, добрым сердцам и умелым рабочим рукам !– добавил громко Тулеген Копанов, профсоюзный командир.
Пластинка в радиоле со всей дури двух динамиков выбросила в зал бесчисленное количество ландышей, поместившихся в знаменитой песне Оскара Фельцмана, которую все любили ещё с пятьдесят восьмого года. Вместе с полётом над столами невидимых ландышей Данилкин, Копанов и Алпатов разнесли на огромной скорости коробки с красивыми, расписанными под эмалевую «финифть» чайными сервизами из тонкого фарфора. Все узоры на чайниках, блюдцах, сахарницах и чашках были разные. И пока женщины показывали друг дружке через стол каждая свой узор на сервизе, мужики дали в зал положенное количество возгласов «поздравляем!» и нужную дозу аплодисментов, после чего каждый незаметно для увлёкшихся жен своих дерябнул по полному стакану водки и занюхал удовольствие кустанайским яблоком. Их привезли много, чтобы облагородить культурой стол с колбасой, селедкой порезанной, яйцами вкрутую, картофельным пюре с луком и красиво наструганными ломтиками сала, подаренного «Альбатросом» в жуткие холода. Ну, культуру застолья обозначали ещё дополнительно штук тридцать бутылок шампанского, чуток поменьше водки и семь красивых плоских флаконов азербайджанского четырехзвёздочного коньяка. Вот на разглядывании сервизов торжественная часть и завершилась. Мужчины хором сотворили шумный салют пробками шампанского, после чего потекло всё, что течёт, ручьями торопливыми в закаленные целинные организмы, превращая довольно быстро тожественное мероприятие чёрт знает во что. Ну, скажем так: в бурную сплоченную попойку, украшенную по ходу её стремительного развития тремя приключениями и финальным скандалом. Без скандала любое аналогичное мероприятие считалось неполноценным и практически все упившиеся покидали его без чувства глубокого удовлетворения. Тягу к нему успел воспитать в народе уже три года как Генеральный секретарь ЦК КПСС дорогой Леонид Ильич Брежнев. Но таких неудачных общественных культурных сборищ почти не случалось. Всё всегда приходило вовремя и развивалось по законам ударной пьянки.
В общем, первым приключением было явление в меру поддатому народу надравшегося в хлам Костомарова Сергея, экономиста. На глаза он никому не показывался, керосинил в одиночку дома и почему-то ещё на озере, где из горла выпивал поллитра семидесятиградусного первача и закусывал снегом.
При этом из дома его даже чрез двойные окна пробивался до ближайших соседей страшный мат, которым он выгонял из дома нечисть всякую.
– Изыдь, мать твою-перемать, да так твою распратак, Сатана! Пошел ты туда-растуда и сюда-рассююда, дьявол ты долбанный, да ком тебе в рот!
А на озере он после первача катался по снегу, потом прыгал на всех четырёх по кругу как волк, обложенный со всех сторон флажками, и дико выл, срываясь на страшное злое скуление. Видели и слышали это многие сельчане, а рассказывали всем, кто не знал такого про Костомарова, красочно, добавляя жути. Если, конечно, умели пофантазировать. Поэтому в совхозе спившегося экономиста начали бояться. Никто не понимал точно – за что. Но побаивались и старались дом его обходить сторонкой.
А тут он вдруг сам ввалился в дверь, застыл в ней на минуту, ухватившись за косяки, и опустил голову. Но так опустил, что глаза дикие торчали исподлобья как угли, которыми он прожигал всех и всё, что не успело укрыться от глаз его шалых. Потом он нагнулся и как-то вытащил лежавший сзади крест деревянный. Он его выдернул с первой попавшейся могилы на кладбище.
– Крестом палю тебя, сука-сатана! – зарычал Костомаров, пал на колени и с крестом впереди пополз под столы. – Бегом лети к чертям своим и Нинку мою принеси мне сюда, да когтями, гляди, не поцарапай. А то осеню тебя нахрен крестом божеским и взорвёшься прямо тут, перед народом осрамишься. Пошел-ка быстро, так тебя и эдак, куда велено! И Нинку, кровиночку мою беглую, верни мигом в целости и красоте её!
– Во как изуродовало горе человека, – вздохнула продавщица сельмага Рябченко.
– Да, если жена без вести пропала, то для порядочного мужика, считай, и жизнь кончилась. – Согласилась с продавщицей нештатная, временная подруга Кирюхи Мостового повариха Валька Завгородняя.
И обе они одновременно перевели взгляд на пухленькую, гладенькую и красивую аж в пятьдесят пять лет жену директора Данилкина Софью Максимовну, которая сидела с мужем напротив них и всё слышала. Софья одобрительно кивнула. Она была авторитетом у женщин не потому, что муж у неё – шишка большая. При нежном своем образе бабушки-сказочницы она имела редчайший дар – незаметно управлять всей женской половиной деревни, она умела всё предвидеть, давать абсолютно точные советы и характеристики людям, а также могла делать практически всё. От кулинарии неповторимой до вышивки двойной гладью и потрясающего вязания спицами.
Пока они переглядывались, а крепко поддавшие мужики тупо и безмолвно следили за обалдевшим Костомаровым, экономист-счетовод начал творить пугающие поступки.
Он нырнул под столы и пополз там, как жук навозный. Он стучал крестом об пол, подвывал, матерился и звал Нинку Захарову. То сам звал, то сатану, который тоже шарахался где-то под столами, проклинал и призывал вернуть жену. Он натыкался на ноги и ножки столов, валил слабый женский пол и всё, что на столах было. Мужики и вынуть его оттуда не могли. Они в это время подхватывали полупустые бутылки и прижимали их к груди. Спасали питьё. Получалось это ловко. Мастерски. Потому, что имели опыт и желание не потерять самое дорогое. После жен своих и детишек, конечно. Женщины, хоть и знали ранее экономиста Костомарова как тихого, безобидного и трусливого дядьку, на всякий случай сильно ужаснулись, перепугались и завизжали. Стояли они в эти минуты кто на стульях, кто между тарелками на столах и звали с перепуга мужей своих, защитников верных.
Первыми вышли из оцепенения Валечка Савостьянов, Артемьев Игорёк и Серёга Чалый. Артемьев зацепил борца с Сатаной за ноги и потянул вбок. Тут же ноги подхватили Чалый с Валентином и экономист без креста через мгновенье уже летел над полом на улицу, поддержанный нежно снизу крепкими руками товарищей по труду сельскохозяйственному. Все расселись как сидели до этого, а Данилкин достал из-под стола крест, открыл окно и выкинул его в снег.
До второго приключения оставалось всего два часа. Никто, конечно и его не предвидел. Все уже с новым удовольствием немало съели и выпили пока Чалый с ребятами дотащили бедолагу Костомарова до дома, привязали его двумя простынями к постели, закрыли дверь на замок, ключ кинули под крыльцо и вернулись уже к тому моменту веселья, когда Генка Михалёв растащил широко меха аккордеона и заиграл популярную в совхозе общенародную песню «Подмосковные вечера».
Песня была не просто хороша. Она было той желанной и единственной, слова которой знал даже сторож, сбежавший от блатных, Сашка Гаврилюк. А он и знаменит был тем, что не знал больше ни одной песни и никакого, даже детского, стихотворения.
– А, это самое…– тихо крикнул Данилкин Чалому в ухо. – Костомаров случайно рассудком не подвинулся? Как-то похоже. Может, в «дурку» его завтра свезём?
Может, его на стационар заберут?
– Завтра следователи приедут. Малович с Тихоновым. Тихонов же тебе, Ильич, звонил утром. Забыл? Восьмое, сказал, отгуляют. А девятого, к обеду приедут. Мы уже похмелимся до рабочей кондиции.
-А! – вспомнил директор Данилкин. – Да! Пора им брать Костомарова за… Ну, не маленькие, сами найдут – за что.
– Если б знали вы
Как мне дороги!
По пятому разу аккуратно на разные голоса выводили все участники праздника.
И означало это только одно: праздник снова катился по единственным, для него специально проложенным и куда надо ведущим рельсам.
***
Часа два подряд всё шло по законам культурного, воодушевленного наличием отдельного женского праздника, советского мероприятия. Поэтому временами, чтобы никто не забывал даже после пятисот граммов водки на нос – какая великая страна, какой могучий созидательный строй подарил простым людям возможность гулять и вкалывать от всей души, парторг Алпатов восходил, качаясь, на край стола и поднимал над собой полный стакан:
– Коммунистической партии слава! Ленин с нами! ЦК компартии КазССР – ура!
Все четверо баянистов, три гармониста и Генка Михалёв на аккордеоне долго, с упоением играли туш. Женщины вразнобой пищали – «Слава великому Ленину!» А мужики вместе с Алпатовым орали многократное «Ура!»
Со стороны всё это смотрелось как массовое буйное помешательство, поскольку на трезвую голову в будень трудовой таких слюней никто бы даже под приказом Данилкина не пустил. В шестьдесят девятом злой иронии к Ленину, партии, коммунизму и лично Леониду Ильичу ещё не было. Но вера во всё перечисленное уже покачивалась, как сегодняшняя пьяная корчагинская компания.
Ну, покричали, попели всякие лирические песни про женщин и любовь, Потом стихли и молча покушали ещё раз хорошо, да снова выпили с удовольствием и желанием.
– Это самое, Чалый…– вспомнил Толян Кравчук. – Мы ж на Новый год покупали в городе хлопушки, у которых конфетти внутри. И пять штук длинных таких трубочек – цветных фейерверков. Но тогда перепились раньше и до них уже не дошли руки.
– Ну, – сказал Чалый Серёга, разжевывая шницель. – Хочешь сейчас наших девушек порадовать?
– Ага! – радостно шепнул Толян, – Это ж какое украшение празднику будет. Салют натуральный! Бабоньки всех нас расцелуют и затискают от радости.
– Ну, беги. Принеси. Раздадим мужикам и по команде салют запустим. – Серёга взял вилкой новый шницель с подноса и от Кравчука отвлекся.
Минут через пятнадцать Толян вернулся с холщевым мешком и положил его возле двери. В уголок. Никто ничего не заметил. Кравчук что-то пошептал Игорьку Артемьеву. Игорёк заулыбался, обнял Кравчука и большой палец оттопырил. После чего оббежал всех мужиков и тоже на ухо каждому передал план действий. Все ребята по одному с минутным интервалом ходили к мешку и совали в карман по хлопушке. Пятерым достались трубочки-фейерверки. В их числе и Чалый оказался. Фейерверки домашние редкостью были. Откуда их привозили – неизвестно. И продавали их только на барахолке кустанайской. Да и то из-под полы. Но хватало всем. И городским и деревенским. Эффект от них был оглушительный в прямом и переносном смыслах. Зрелище завораживающее. Шум, искры, разноцветные струи огненные, шарики, похожие на мыльные пузыри, которые лопались в воздухе и рассыпались мелкими звездочками, ублажая душу каждую пестрой жгучей красотой.
– С праздником вас, любимые наши и дорогие! – дал команду мужикам Чалый Серёга. После чего все достали из карманов хлопушки и трубочки. – Залпом! Из всех орудий! Пли!!!
Раздался грохот, щелчки, хлопки, взрывы средней силы и актовый зал за пару секунд превратился в ад. А до этой минуты все поголовно были убеждены, что нет ни рая, ни ада. Но, оказывается, до фейерверка был натуральный рай, а после него – зловонный, огнедышащий потусторонний ад. Ну, то, что всех женщин засыпало разноцветными конфетти, которые проникли повсюду: в причёски, в декольте, за шиворот красивых платьев и даже в открытые от резкого удивления рты – это была просто милая шалость. А вот фейерверки, работающие от дымного пороха, загрузили актовый зал едким вонючим дымом так плотно, что не кашляли только Маркс, Энгельс, Ленин и лично Леонид Ильич, висевшие в виде портретов в рамках на стенах. Мало того, огонь, извергающийся из трубочек как из преисподней, улетал далеко и высоко. Разноцветные горячие шипящие искры отскакивали от потолка, стен и в свободном полёте поражали всех, кто не успел упасть на пол или спрятаться под стол.
– Шторы горят! – дико закричал директор Данилкин и бросился к одному окну, сорвал шелковую штору и начал топтать её ногами. Валечка Савостьянов пробежал бегом мимо оставшихся пяти окон и тоже сдёрнул шторы. Они пылали так, будто их предварительно окропили бензином. Но хуже было то, что шарики от фейерверка не собирались лопаться, а летали как жар- птицы, натыкаясь на зазевавшихся, неважно реагирующих после выпитого празднующих. Десятерым дамам они прожгли вечерние платья, сделанные из тканей, загорающихся быстро и ярко. Мужики шлёпали всех женщин без разбора по тем местам, где горело. А горело и на грудях, и на задницах, на нежных спинах тоже. В эти минуты праздненство стало слегка напоминать и Содом, и Гоморру, что, впрочем, не смущало никого. Потому, что не до того было. Потом дамы тем же способом тушили первых попавшихся мужиков, на которых тоже огонь дырявил костюмы на неинтересных и интересных местах.
Самым печальным фактом стало исчезновение трёх больших скатертей, которые сгорели дотла, оставив всё, что ели и пили, на голых досках столов.
– Бляха! – изумился Данилкин Григорий Ильич, директор. – Это из чего же их сделали? Как они успели за пять минут испариться? Завхоз! Ты что купил, бляха!?
– Скатерть белая, нетканая ткань. Артикул триста два дробь семь. Цена шесть шестьдесят за штуку. – Доложил Прилепко, завхоз.
Когда выполз в распахнутые окна и продолжал вонять на улице пороховой дым, все сразу увидели друг друга. А ещё – большие прожженные дырья на лицах основоположников социализма и Генерального секретаря партии. А кроме того – закопченные физиономии свои и дырявую одежду. Всё это в другой день могло навернуть слезу на глаза присутствующих, но в этот вечер все были так хорошо облагорожены шампанским, водкой, коньяком и самогоном, таящимся под столами, что народу стало весело. На улице было градусов десять мороза всего, поэтому окна закрывать не спешили. Завхоз быстренько принес три таких же скатерти, женщины снова сделали красивый стол, заиграли гармошки, баяны. А аккордеонист Генка Михалёв от пережитого поимел стресс, поскольку укрывал от огня летучего аккордеон телом своим. Вот так, не отрываясь от инструмента, он и уснул в углу, поскольку и перебрал водки, и меха тягал отчаянно. Потому и притомился.
– Нормально гуляем? – во всю мощь связок голосовых спросил у всех Олежка Николаев. – А, народ?
– Спасибо вам, мальчики! – сказала за всех жена Данилкина Софья Максимовна. – Вы сделали вечер просто незабываемым!
– Спа-си-бо! Спа-си-бо! – вскричал хор женщин на три голоса. Как песню спели дамы благодарственные слова
И понёсся праздник дальше. Полетел как орёл над степью. Мощно, уверенно, красиво. Пели, пили, танцевали, закусывали и отдыхали. Окна, правда, пришлось закрыть. Потным простыть – раз плюнуть. Так прошло ещё часа два.
В сплошном удовольствии от всего запланированного и нечаянного, неожиданного.
А в одиннадцать часов вечера, в самом начале двенадцатого полоснули по окнам острые лучи мощных фар и у порога конторы скрипнули тормоза. Хлопнула дверца и через минуту в дверях появился огромный, нет – очень огромный, занявший полностью весь проем дверной, букет розовых, алых и кроваво-красных гвоздик. Букет вышел на середину зала и незнакомым для многих голосом попросил всех прекрасных дам встать в одну линию слева направо. От неожиданности и думать было некогда. Линейка выстроилась за минуту, смеясь и пощёлкивая пальцами. И вот когда к ногам каждой из милых дам упали по пять-семь гвоздик, тут и обнаружилась личность разносчика прелестных цветов, редких и дорогих. Личностью оказался Игорь Сергеевич Алипов, главный агроном «Альбатроса», возлюбленный Валентины Мостовой. Кирюхиной жены. Они трое уже давненько, до морозов ещё, разрешили все свои любовные и семейные проблемы. Выяснили, что Игорь и Валентина жить друг без друга не в силах, что жизнь её с Кириллом в последние годы – чистая формальность, а сам Кирюха съездил к Алипову на разборку, во время которой и порешили, что любовь сильнее всех преград, а потому Кирилл добровольно уступает ему жену и желает им счастья. Которого сам он и Валентина в семье своей не имели.
– Собирайся, Валя!– сказал Алипов Игорь и распахнул руки с последним букетом из одиннадцати гвоздик. – Я приехал за тобой. Это и есть мой тебе обещанный подарок в женский день!
Валентина выбежала к нему, обняла, поцеловала и под бурные аплодисменты приняла букет. Все про них всё знали от неё и от Кирилла. И были удивленно рады тому, как любовь побеждает даже инстинкт собственника. Потому что Кирилл Мостовой тоже подошел к ним, пожал Игорю Сергеевичу руку, поцеловал жену в щеку, обнял их обоих и сказал от души:
– Хочу, чтобы с тобой, Игорь, ей, наконец, стало счастливо жить. Она всегда хотела радости и счастья семейного. Я тоже. Но судьба, оказывается, назначила нас друг другу для пытки душевной и боли сердечной. Желаю вам счастья!