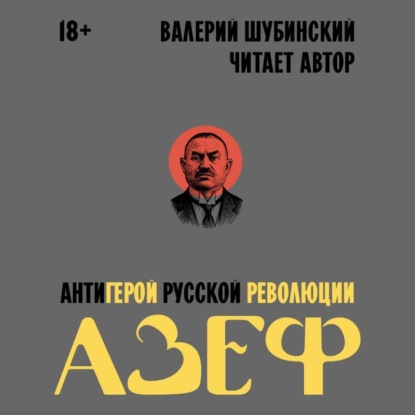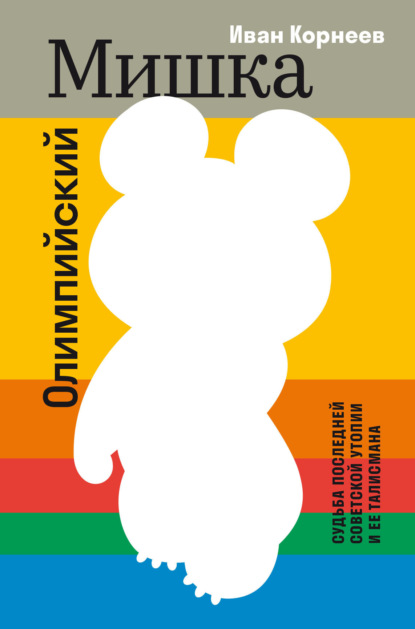Полная версия
Фермата. Разговоры с композиторами
– Разве этот разговор про опасность прогресса не вечный? Такой же, как разговор про конфликт поколений и молодежь, которая не чувствует важных вещей?
– В каком-то смысле вечный – но, конечно, не настолько, как конфликт отцов и детей. Просто этот процесс усиливается. Еще в начале XX века чуткие художники и в Англии, и в России догадывались, что цивилизация враждебна культуре. Но это были скорее предположения. А сейчас мы видим результат, и для этого не нужно быть особенно чутким – это очевидно, всякий это видит. Все ускоряется с невиданной скоростью, еще чуть-чуть – и это будет неостановимо.
– А как вы относитесь к концепции Владимира Мартынова про «конец времени композиторов»?
– А как я могу к ней относиться? Плохо, плохо отношусь. Что он делает? Он фактически становится в один ряд с теми, кто хотел бы уничтожить культуру. Придумывает им теоретическое обоснование. Что же тут хорошего?
– Но он ведь и сам композитор. Он прежде всего описывает собственную гибель.
– Да, вот такое у него противоречие – композитор, который провозглашает конец композиторов. И все ему это противоречие прощают. А я – нет. Кстати, то, что он делает как композитор, мне как раз нравится. Что-то больше, что-то меньше, но в целом я принимаю его творчество. А вот его желание оправдывать тенденцию, которая и так побеждает, – нет. Он доказывает, что так и должно быть, и это хорошо, это нормально. Он соглашатель. А мне не нравится позиция художника, который соглашается с тем, что падает в пропасть. В то время как цивилизация превращает человека в обезьяну, принижает его, опрощает…
– И все же – вы не сожалеете о том, что роль композиторов в обществе уже никогда не будет такой, как прежде? Что на оперные премьеры никогда не соберутся такие толпы, как во времена Малера, что современный композитор не попадет на обложку Time?
– Знаете, у Тойнби есть концепция трехдольного хода истории: развитие – апогей – спад. К истории музыки она тоже приложима. Ведь и Гайдн, и Моцарт жили в униженном положении. Они были слугами у богатых господ, и их слушатели тоже хотели только развлекаться – как и большинство современных слушателей, которые хотят развлекаться и не хотят вовлекаться. И композиторы героическими усилиями вынуждены были эту тенденцию преодолевать. Моцарт устраивал ассамблеи, Бетховен вообще был титанической фигурой, страстно желавшей возвысить положение музыки в обществе. Развитие переросло в апогей, а сейчас идет спад. Вот и все. Но у Тойнби есть и колоссально обнадеживающая мысль – полифония ритмов. Ни в коем случае нельзя отождествлять историю с живым организмом. Организм развивается линейно: он рождается, взрослеет и умирает. Эту логику невозможно преодолеть. Но общество развивается гораздо более сложным образом – полифонически, ритмы развития накладываются один на другой. Один слой социума хочет опроститься, а другой – нет, у них разные амплитуды. Мои наблюдения это подтверждают. Вроде бы повсюду идет спад, и публика желает только веселиться, но одновременно появляются какие-то менеджеры или просто светлые умы, которые оказывают сопротивление упадку. Мне эта концепция полифонического развития куда ближе, чем гораздо более пессимистический взгляд на историю Шпенглера.
– Не виноваты ли в этом спаде и композиторы тоже? Есть такое распространенное мнение: в середине XX века композиторы увлеклись настолько сложной и трудно постигаемой музыкой, что публика просто не смогла ее переварить – и в результате отвернулась. Когда Пьера Булеза спросили, почему многие важные сочинения 1950‐х и 1960‐х годов никто не играет и не записывает, он честно признался, что, возможно, из-за того, что никто в то время не думал о том, как эту музыку будет слушать публика.
– (Долгая пауза.) Возможно, он прав. Возможно. (Пауза.) Трудно сказать. Сложный это вопрос, сложнейший. Ведь существовали не только эти композиции, была и более доступная музыка. Но, я думаю, отчасти он прав.
– Но вы в то время, конечно, так не думали? У вас была совсем другая ситуация – вы тридцать лет, с середины 1950‐х по середину 1980‐х, сочиняли в стол. Вашу музыку исполняли довольно редко.
– Хотя нельзя сказать, что уж совсем не исполняли. Но 1960–1970‐е были действительно очень трудными. Казалось, что мне подрубают корень. Исполнитель выучил мою вещь, хочет сыграть – и тут запрет. Было много отчаяния. Но позже, в 1980‐е, отдельные исполнители стали преодолевать этот барьер: дирижер Юрий Николаевский, Владимир Тонха, Фридрих Липс… Все-таки не совсем в стол я писала. Кое-что было сыграно, какие-то вещи все же мелькнули.
– Что вы себе говорили в самые тяжелые годы?
– Я припоминаю, что у меня тогда было, как ни странно, довольно активное настроение. Отчаяние бывало, конечно, но по большей части мною двигала энергия. Задумываться, что будет дальше, у меня просто не было времени.
– Но ведь вам нужно было на что-то жить.
– Меня спасла музыка к кинофильмам. Союз композиторов контролировал все записи и все исполнения, но кинематографисты ему не подчинялись. Получить работу в кино было непросто, но возможно – так я и выжила. Лент было не слишком много, и не всегда они были такими уж выдающимися. Но встречались и очень интересные работы. А для меня это был не только заработок, но еще и очень хорошая практика с оркестром. Суровая, вообще говоря. Нужно сделать свою работу безошибочно и за очень короткий срок. И – что немаловажно – эту музыку гарантированно исполнят, причем тоже очень быстро. Там была целая комната переписчиков для оркестра, буквально на третий день вы уже выходите к музыкантам.
– Кинематографисты, которые заказывали музыку вам, Денисову, Шнитке, делали это, потому что любили ваше творчество? Они вас таким образом поддерживали?
– Нет, я не думаю. Просто нормальные художники, которые искали то, что им подходит. Не потому, что это прогрессивно, а потому, что это ровно то, что им нужно. Они решали чисто художественные задачи. И когда появлялась возможность вырваться за границы, которые ставила идеология, в пространство свободы – они это делали.
– А сейчас вы к этим работам – вроде саундтрека к «Маугли» или к «Чучелу» – как относитесь?
– Я их не стесняюсь. Конечно, это совершенно другая область творчества, и вальс из «Чучела» я в свой концерт не вставлю. Но это была вполне удачная стилизация под вальсик для духового оркестра в саду. А иногда были и просто очень творческие затеи. Например, когда мы делали «Кошку, которая гуляла сама по себе» – вся съемочная группа этим просто горела. Я, конечно, трезво оценивала ситуацию: когда я сочиняю симфонию, я – главная персона, а там я что-то вроде актера. Но все равно было интересно.
– А какая музыка на вас влияла в те годы?
– Я хочу сказать, что никакая музыка на меня не влияла и не влияет. Когда я сочиняю, я стараюсь забыть все, что слышала. Все прослушанное остается где-то на дне подсознания. А слушала я очень много. Непременно – Бетховена, Баха, Моцарта, Гайдна, Малера, Шумана, Мессиана. Из русских – Шостаковича, Прокофьева, Чайковского, Римского-Корсакова. И одновременно на меня громадное впечатление производили всякие архивные записи. Была такая серия пластинок – яванский гамелан, традиционная музыка Японии, Китая. Якуты, тувинцы. Или музыка пигмеев, например, гениальная. Джаз, конечно. Рок – нет, а джаз – да.
– Это был какой-то принципиальный момент? Как раз Мартынов вспоминает в мемуарах, как вы вместе тусовались в конце 1960‐х в студии электронной музыки при музее Скрябина, и говорит, что в какой-то момент его компания перестала слушать авангард и стала слушать исключительно Pink Floyd и King Crimson, а ваша – Шнитке, Денисов и все остальные – из-за этого в студию просто перестала ходить.
– Я бы с удовольствием с ними послушала что угодно – конечно, чтобы потом все забыть; дело не в этом. Просто я к тому моменту совсем разочаровалась в электронике.
– Почему?
– Меня поначалу увлекла идея, что можно сочинять музыку, просто что-то нарисовав для синтезатора, то есть минуя исполнителей, – тогда это было актуально. Но аппарат оказался ненадежным, слишком многое зависело от пленки, динамиков, всяких случайностей. Поэтому я переключилась на живые инструменты, особенно на не самые традиционные – тар, тамбур, дудук. А электроника мне стала мешать.
– Вы не пытались к ней вернуться, когда техника стала более совершенной?
– Нет. Я довольно рано поняла, что разбрасываться вредно. Надо выбрать что-то одно и углубляться. Обязательно надо себя в чем-то ограничивать.
– Когда вы решаете написать музыку для, скажем, кото и симфонического оркестра, или чжэна, или аквафона – вы чем руководствуетесь, тембральными характеристиками? Тем, что никто прежде для такого состава не сочинял?
– Совсем другим. Мне показалось привлекательным с помощью этих инструментов проникнуть в то архаичное время, когда вообще ничего еще не существовало. Никакой цивилизации, никаких нот. Мы ведь и играть на них начали именно поэтому. Под запретом были пассажи, готовые аккорды. Конечно, нам не подходили рояль, виолончель, скрипка. Зато подходили кото, пипа, тар, кяманча. Это даже не было в полном смысле импровизацией – скорее школой духовного общения. Общения через звуки. Но без претензий на исполнительское мастерство.
– То есть на виртуозность.
– Да-да, на виртуозность. Ощущения, надо сказать, от такой практики небывалые. И я все думала, почему же это так привлекательно. И в какой-то момент поняла – это желание старости примкнуть к молодости. Мы живем в эпоху старой цивилизации, да мы сейчас и сами старые уже, хотя тогда, конечно, я себя старой совсем не считала. Но ужасно притягательна сама возможность вместо традиционной для нашей культуры формы «сочинил – записал – исполнили» прикоснуться к устной традиции дописьменного, архаического сознания. Это был совершенно параллельный мир. Просто нас очаровал этот круговорот – молодость, старость, молодость, старость. Но поймите меня правильно – я не призываю вернуться к докомпозиторской эпохе. Совсем нет. Я продолжаю сочинять. Я люблю музицировать. Сочиняю, правда, уже не каждый день – в поездках не получается. Но дома – обязательно. Я не потеряла любви к музыке.
– У вас сейчас много заказов?
– Очень. Больше, чем я могу выполнить. Я решила, что сделаю следующие три – раз уж у меня юбилей – и больше заказов у меня не будет. От всех остальных я отказалась. Думаю, мне надо сделать перерыв. Потому что каждый художник имеет право на годы молчания. Так что… Я выполню еще три заказа, а после меня ждут годы молчания. Да. Годы молчания.
* * *– Влияет ли как-то возраст на ваше творчество? Стало ли вам с годами проще сочинять – или, наоборот, сложнее?
– Я обсуждала это с коллегами, и почти все сходятся на том, что чем дальше, тем сложнее. Это, видимо, специфика нашего труда. Обычно человек овладевает какой-то техникой, и со временем ему становится легче. Ну, появляются другие сложности, но в профессиональном смысле – попроще. А у пишущих людей – думаю, и у художников так же, и у поэтов, но уж, во всяком случае, у композиторов, я со многими говорила, – все наоборот. Чем это объяснить – трудно сказать. Но я думаю, дело в том, что не все у нас состоит из техники. Овладение техникой сочинительства – это не самое главное. А все остальное – это то, что нельзя повторить. Нужно все время что-то искать новое, и это все сложнее, потому что все композиторское творчество направлено внутрь, в область интуиции. Путешествие внутрь своей души с возрастом оказывается все дольше, и естественно, что преодолевать это расстояние становится все сложнее.
– Известны примеры, когда у композиторов в зрелом возрасте резко менялся музыкальный язык: поздний Ноно, Стравинский, Бетховен. Как вам кажется, как менялась с годами ваша музыка и что на это влияло?
– Я заметила, что у многих моих друзей, ну, скажем, Арво [Пярта] или [Валентина] Сильвестрова, в какой-то момент в творчестве произошел радикальный слом. Но у меня такого не было. Я с самого начала иду примерно одним путем. Моей целью всегда было услышать звучание мира, звучание своей собственной души и изучить их столкновение, контраст или, наоборот, сходство. И чем дольше я иду, тем яснее мне становится, что я все это время занимаюсь поисками того звучания, которое соответствовало бы правде моей жизни. То, что я пишу сейчас, – это приблизительно то же самое, что я писала, когда была молодой. Я тогда написала произведение под названием «Фацелия», ну и сейчас все примерно то же самое. Я так и занимаюсь поисками правды своей собственной души и ее отклика на то, что я слышу. На то, как звучит мир.
– Эту перемену в творчестве Пярта, Сильвестрова, Мартынова и многих других назовут «новой простотой», и произошло это примерно в одно и то же время. В 1977‐м Пярт напишет «Tabula Rasa», Сильвестров – «Тихие песни», Мартынов – «Страстные песни», Гурецки – Третью симфонию. Что тогда случилось, почему это носилось в воздухе?
– Вы правы, это произошло сразу у многих людей. Думаю, дело вот в чем. XX век – это век поисков чего-то очень нового, неслыханных звучаний, невиданных поворотов, в музыке, в живописи, в архитектуре. И найдено такое количество всего нового, экспрессивного, созданы такие потрясающие вещи, вроде «Моисея и Арона» Шенберга… В какой-то момент нужно было оглянуться и посмотреть, не перешли ли мы грань. Есть понятие предела, предельного осуществления какой-то идеи. И я вижу, что то же самое происходит не только в музыке, не только в области культуры, но даже и в области техники: в какой-то момент нужно оглянуться и посмотреть, нет ли слишком большого преувеличения в том пути, который был взят в XX веке. Авторы, которых вы перечислили, – это как раз люди XXI века. XXI век – это то состояние человечества, в котором оно знает: нужно понять, не переступили ли мы предела. Упомянутый вами слом связан, мне кажется, с этим.
– А почему вас он не коснулся? Вы когда-то даже говорили, что считаете эту «новую простоту» слабостью и не хотите ей поддаваться.
– Это слишком аналитический взгляд: поддаваться, не поддаваться… В те годы и позже я смотрела не на то, что происходит вокруг, а на то, что происходит во мне. И лично у меня не было прихода к этому предельному состоянию экспрессии. Я просто все время думала совсем о другом. Я была просто… в какой-то другой воде. У меня было стремление услышать, как звучит мир, как звучу я сама, и установить соответствие между этими слышимостями. И это бесконечный процесс, не локально-временный. Конечно, иногда и в этой работе происходит жуткий конфликт, который тоже может достигнуть предела, но это все же совершенно другая постановка вопроса.
– Про свой Первый струнный квартет вы говорили, что в нем много пессимизма, потому что «сама жизнь была такой темной, глухой и безнадежной». Получается, эпоха все-таки может отражаться в музыке?
– В первом струнном квартете исполнители расходятся в разные стороны так, что больше не слышат друг друга. Там нет никакой попытки объединиться, наоборот: в финале они окончательно перестают друг друга понимать. Это чисто пессимистическая идея отдаления, разъединения. Да, конечно, мир очень сильно на меня влияет. Но у меня бывали разные состояния.
Когда меня спрашивают, пессимист я или оптимист… С точки зрения интеллекта меня можно назвать пессимистом. Но я не хочу быть пессимистом! У меня такое ощущение, что сейчас человек не имеет права быть пессимистом. Пессимистом можно быть только в том случае, если все нормально. Есть нормальное биение жизни, есть критические замечания к обществу, к социуму, к становлению культурного сознания, а в целом все вроде нормально. Но сейчас положение настолько угрожающее, что мы не имеем права на пессимизм. Я не хочу сказать, что я оптимист. Надежда хотя и есть, но маленькая, и обстановка для культуры настолько угрожающая… Совершенно безнадежная ситуация. Но мы должны обязательно найти точку опоры и сопротивляться тому, что происходит сейчас. А совершенно очевидно, что идет культурный спад. Все большее значение имеет популярная музыка, все меньшее – высокое, чистое искусство.
– В этой связи не могу не вспомнить, что в 1976 году у вас было сочинение для двух оркестров, эстрадного и симфонического, и исполняться оно должно было в мюзик-холле.
– Да я ведь вообще к эстраде плохо не отношусь, и к джазу тоже с великим почтением. Когда я говорю о засилье развлекательного искусства, я не говорю о том, что оно не нужно. Я все понимаю. А в свое время даже очень приветствовала, когда джаз был запрещен. Просто должен быть правильный баланс. И сейчас он перекошен в пользу развлечения, веселья, которого и так достаточно – и так уже люди очень веселенькие. Но человек никогда не жил без высокого измерения жизни. В сущности, без этого он не стал бы человеком. Это очень серьезный вопрос.
Сейчас в Таллине прошла мировая премьера моего нового сочинения. Оно о любви и ненависти. Все началось с того, что я прочитала молитву в сборнике ирландских молитв бенедиктинского монастыря, там ее автором значится Франциск Ассизский. Потом оказалось, что это все-таки анонимное сочинение. Но это не имеет никакого значения: церковь приняла ее как молитву Франциска, и я с полным уважением отношусь к тому, как решила церковь.
Эта молитва меня потрясла тем, как там ставится вопрос о любви к Богу. Там сказано: «Боже, помоги мне не в том, чтобы меня утешали, но чтобы я мог утешить. Помоги мне не в том, чтобы меня понимали, но в том, чтобы я понимал. Не в том, чтобы меня любили, но чтобы я любил». И вот это – «помоги мне, Боже, чтобы я любил» – это же просто ко всей нашей цивилизации относится. В нашей цивилизации личность, конечно, развилась очень сильно, и это очень хорошо, но этот процесс дошел до такого предела, когда личность обращается только к себе, только к этому измерению. Это явление мы называем эгоизмом. И вот к нам ко всем обращена эта молитва. Вы думаете, что вы покинуты Богом, а подумайте: а любите ли вы, люблю ли я по-настоящему? Мне кажется, что это просто лично ко мне, ко всем нам, эгоистам, относится.
Во всех цивилизациях было достаточно причин, чтобы ненавидеть. Я скомпилировала тексты из сакральных источников, из русского молитвослова, из Библии, и там очень много причин для того, чтобы ненавидеть, чтобы отвечать агрессией. Там сказано: «Враги мои искажают заповеди твои» – серьезнейшая причина! Вопрос ненависти стоит в центре сочинения. (Цитирует, повышая голос.) Ненавижу… ненавижу, НЕНАВИЖУ! (Недоуменно.) Я… ненавижу?
Этот вопрос – он по существу неразрешим, и что тут можно сделать? После этого вопроса все равно слезами обливается мое сердце оттого, что так много врагов. В сочинении это чувство агрессии все нарастает, и вдруг, как разрешение в консонанс: «Я сошла в ореховый сад, посмотреть на зелень долины, посмотреть, не распустилась ли виноградная лоза, не расцвели ли гранатовые яблоки. О мой возлюбленный, иди, выйдем в поле, побудем вместе». И вот этот текст из Песни песней, эта чистая любовь, может быть, спасет нас от греха себялюбия и ненависти. Дальше в сочинении идет целый эпизод, который все равно наращивает агрессию. И только в конце: «Боже, помоги нам, помоги принести любовь туда, где царит ненависть. Помоги мне принести прощение туда, где царит обида». Это противопоставление – вопрос, который совершенно непреодолим. И [мое] сочинение только спрашивает, оно только ставит вопрос.
– А почему у вас нет музыки, написанной специально для церкви? Ведь сама эта тема для вас невероятно важна.
– Дело в том, что я православная. Там бы не приняли мою музыку. [В православной церкви] не исполняется современная музыка. Моя музыка хотя и обращена к религиозности – безусловно, она вся религиозная, – но она светская. Это светская музыка для концертного зала. Она может быть исполнена в церкви и очень часто исполнялась в церкви, но не в православной. А вот что касается отношения священников – меня очень заботил этот вопрос. Я написала «Страсти по Иоанну» и «Пасху по Иоанну» и очень волновалась, как отнесутся священники к моей работе. Я поехала на остров Валаам, там рядом маленький островок, на нем живет пустынник, отец Василий. И я с ним поделилась, спросила его, как к этому относиться. И он сказал: «Не обращайте внимания! Люди очень любят учить и поучать. Делайте, что ваша душа вам говорит». Так сказал мне отец Василий. И снял с меня абсолютно весь груз моей деятельности.
– Многие из ваших сочинений можно назвать трагическими, вы сами говорили, что вас интересует все, в чем присутствует трагизм. Но вот мы разговариваем, и совершенно нет ощущения, что у вас трагический взгляд на мир. Насколько вообще связан характер композитора с его музыкой?
– А я думаю, что это правда. В смысле, вот это трагическое ощущение во мне. Я думаю, что то, что есть в моем творчестве, – это чистая правда обо мне. А в разговоре я это ощущение преодолеваю.
– Вы себя называете интуитом, в том смысле, что ваш подход к музыке интуитивен. Но при этом в ваших сочинениях важную роль играет математика. Целый ряд произведений построен на рядах Фибоначчи, рядах Локка, и сочинение музыки в вашем случае сопряжено со сложнейшими расчетами, составлением таблиц и так далее. Как одно уживается с другим?
– Самый сложный вопрос – это взаимоотношение интеллекта и интуиции в жизни художника. Вообще я на первое место ставлю интуитивный поток. И очень не хочу, чтобы интеллект подавил эту интуицию. Но я отлично понимаю, что художественное произведение не может быть чисто интуитивным. И в идеале интуитивный поток должен сдерживаться интеллектуальным законом. К этому я и стремлюсь, когда занимаюсь рядами Фибоначчи, связанными с золотым сечением. Я надеюсь на то, что трение между интуитивным потоком и интеллектуальным сдерживанием этого потока даст мне нужную энергию. Но это эксперимент. Ну, иногда получается. Иногда даже получается некий звуковой храм, где золотое сечение проявлено в самой важной точке сочинения. Но преодоление интуитивного потока – это борьба не на жизнь, а на смерть. Потому что иногда он не подчиняется. И нужно обязательно добиться этого баланса. Или вибрации между ними.
– Правильно ли я понимаю, что вы таким образом пытаетесь создать новую структуру вместо традиционных ритмических, гармонических, тональных систем?
– Нет-нет, речь не идет о замене. Речь идет только о формообразовании. А средства – тональные, атональные – могут быть самые разные, в зависимости от того, как играет интуитивный поток. Я не хочу ему мешать, но хочу, чтобы его что-то сдерживало. Вот такая у меня позиция. А что касается средств, интервалики, аккордики – это все интуиция.
– А почему вы, с вашим интересом к форме, никогда не пробовали написать оперу?
– Вот к опере меня как-то не очень тянет. Мне кажется, что именно концертное музицирование дает возможность проявиться чистоте нашего духа. А опера затемняет это все слишком большим количеством внешних аксессуаров. Слишком много материи в этом жанре. Мне гораздо ближе концертный зал.
– Можно ли считать, что для вас самыми сложными были 1960–1970‐е годы? У вас были проблемы с исполнениями, и сложно забыть известное выступление Тихона Хренникова 1979 года. С другой стороны, вы описываете эти годы как очень плодотворные, а жизнь – как сложную, но насыщенную и энергичную, подчиненную жесткому режиму: каждый день занятия физкультурой, выключенный телефон, многочасовая работа над партитурами.
– И все-таки это были самые сложные и неблагополучные годы. И очень большое торможение оказывало то, что я не имела выхода к публике. Очень трудно было добыть друзей-исполнителей. К счастью, они нашлись и поддержали нас, вытащили из состояния абсолютного падения. А самый благостный период у меня начался в моем старшем возрасте, когда я нашла убежище в деревне. Не в городе, а в деревне. Дело в том, что я очень нуждаюсь в сосредоточенности. И в близости к земле, к растениям, деревьям. Вот такая простая вещь для меня очень важна. Германия подарила мне эту возможность. Вот там можно было и заниматься физкультурой, и целыми днями работать сколько я хочу. Последние двадцать с лишним лет – это самые плодотворные годы. Ростропович подарил мне рояль, рядом поле, лес, где я могу получить то основное, из чего растет все мое душевное богатство.
– Интересна ли вам современная музыка? Не бывает ли ощущения от новых сочинений, что вы все это слышали тридцать-сорок лет назад?
– Ощущение есть, но, думаю, оно и было всегда. Если в XIX веке вы спросили бы Шумана про современные сочинения, то он, конечно, сказал бы: да, я все это уже слышал. Но это ничего не значит. Все равно идет творческий процесс в масштабе всего социума, и это очень важно. Это Андрей Волконский в свое время любил говорить в беседе: о, ну такое я уже слышал. А я ему отвечала: ну и что, что слышал? Это же не важно! Даже если взять корифеев – Моцарта, Бетховена, Гайдна, это ведь тоже «уже было». Или Шютца. Или Сальери. Это бывает всегда, это закон нашей природы. Я довольно много общаюсь с молодыми композиторами, все активно работают, что-то себе думают… Но, конечно, аккорд – он и есть аккорд, мелодия – это всегда мелодия. Повторения обязательно будут. Но у молодежи сейчас очень творческий дух, и это вселяет в меня надежду.