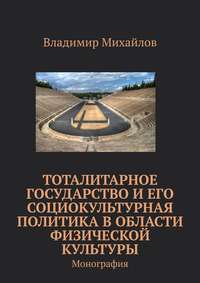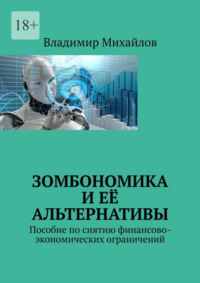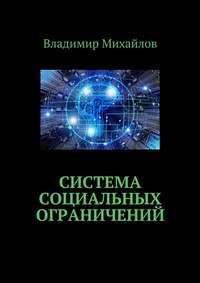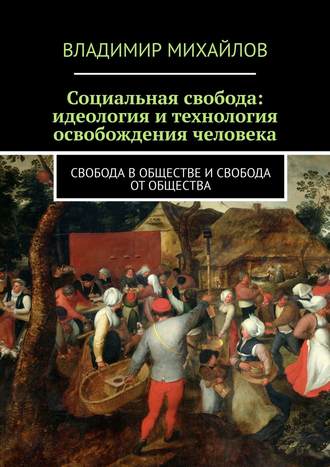
Полная версия
Социальная свобода: идеология и технология освобождения человека. Свобода в обществе и свобода от общества
Однако, «диктатура беззакония» основанная на тупой или недальновидной силе тоже не всесильна. Неспособность живущих по принципу «сила есть, ума не надо» просчитать или предвидеть более-менее отдаленные последствия своих действий неизбежно приводит их к неудачам, а то и к полному краху, как это показала, к примеру, история гитлеровских авантюр. Также надо понимать, что доминация в одной силе, не означает автоматического превосходства в других: например, доминируя в физической силе, современные «силовики» далеко не доминируют в информационной или духовной сфере и зависят даже от финансовой силы.
Сами по себе системы правовых социальных ограничений существенно отличались в разных культурах. «Античное право – это право тела, или евклидова математика общественной жизни, ибо различает в составе мира телесные личности и телесные вещи и устанавливает отношения между ними. Правовое мышление ближайшим образом родственно мышлению математическому… Первым созданием арабского права было понятие бестелесной личности»67, – писал О. Шпенглер. Европейское же право, по О. Шпенглеру, внутренне конфликтно (то есть негармонично и несовершенно), так как «говорит» на языке античности, но само по себе является правом функций, а не физических тел. Это показывает, что содержание и структура правовых социальных ограничений, будучи обусловленной господствующей в цивилизации идеологией, мыслилась и реализовывалась весьма разнообразно. Такое явление как несовершенство законодательства с одной стороны само по себе является социальным ограничением, а с другой оказывается внутренним самоограничением самих ограничений, не дающим им развиться в полную силу, окончательно закабалив человека. Подобная ситуация помогает человеку выйти из-под их контроля, заметив и осознав их несовершенство, как признак неполноценности.
Во многих обществах параллельно сосуществуют разные системы права: например национально-государственного и международного, международного, государственного и религиозного (исламский шариат, законы Ману в индуизме, юрисдикция католической церкви и т.п.). Если страной управляет замаскированная под государство корпорация, как в случае ФРГ или РФ, то помимо «корпоративных» псевдогосударственных законов там формально действуют и нормы существовавших там ранее государств, например, СССР. Понятно, что эти разные правовые системы и их нормы могут не только в чем-то не совпадать, но и очень сильно различаться. Возникает ситуация правовой многомерности, дающая юридически грамотным людям большую свободу маневра. Такая ситуация существовала и ранее: законы метрополии, Остиндской компании и туземных государств…
М. Фуко отмечал, что в средневековой Европе не существовало чёткой системы социальных ограничений, в том числе и правовых. Наказания были жестокими и зрелищными, но не систематичными, задачи исправления преступника они не имели. «Вообще говоря, при королевском режиме во Франции каждый общественный слой располагал собственным полем терпимой противозаконности: невыполнение правил, многочисленных эдиктов или указов являлось условием политического и экономического функционирования общества»68. «XVIII век изобрел техники дисциплины и экзамена, подобно тому, как средневековье – судебное дознание»69, – писал М. Фуко. Только в Новое время в Западной Европе стала формироваться полноценная система социальных ограничений в рамках дисциплинарного общества. Ведущая роль в её создании принадлежала именно юристам. Получается, что в Средние века европеец был во многом более свободен, чем впоследствии. Похожую ситуацию мы наблюдаем и в России. О тирании Ивана Грозного знают все грамотные россияне, но не все знают, что законодательство Алексея Романова, а тем более Петра I было значительно более жестким, чем при Иване Грозном. Крепостное право также окончательно сложилось лишь при преемниках «грозного царя». То есть и здесь мы видим феномен прогрессирующего роста несвободы.
Внутреннее несовершенство законодательства тесно связано с другой группой социальных ограничений – информационно-образовательной, потому что правовые нормы являются формой информации. Эти ограничения непосредственно выражаются в препятствиях перемещения, использования и обладания информацией, как сведениями, разрешающими некую неопределённость в понимании смысла явления или процесса (сведения, распространяемые СМИ информацией не являются, ибо смысл их многим невнятен и распознается зачастую уже самостоятельно). Они регулируют такие образовательные феномены, как знания, умения и навыки. Знания в отличие от сведений имеют не только количественное, но и качественное измерение, меняя их носителя (человека), также как умения и навыки. Информация же, в отличие от знаний, человека не меняет в плане его поведения. Ограничения в этой сфере могут иметь как объективный характер, обусловленный простым отсутствием данных (сведений, информации, знания), так и субъективный, обусловленный их сокрытием, цензурой, запретом и т. п. Эти социальные ограничения могут иметь как идеальный, так как знание идеально, так и материальный, связанный с техникой и материальной культурой характер, исходить от людей и от вещей. В настоящее время, исходя из концепции информационного общества, снятию информационных ограничений, свободе передвижения информации, как, впрочем, и образованию уделяется большое внимание (это было верно в начале XXI века, сегодня это уже не так, как в России, так и во многих других странах. С 2012 г. в РФ стали усиливаться и нарастать информационно-образовательные ограничения, что говорит о циклическом характере социально-ограничительной динамики.). В этой связи необходимо указать на некоторые ограничивающие нас мистификации, связанные с теорией информационного общества. Например, Д. Белл70 утверждает, что не энергия и сырье, а информация является основой производства и выдвигает на этом основании информационную теорию стоимости, как будто информация – есть «мера всех вещей». На самом же деле информация без энергии и сырья ничего не стоит, так как ни производство, ни человек без них функционировать не могут, хотя при наличии энергии и сырья информация действительно может быть главным фактором производства. Это взаимосвязанные компоненты и отсутствие одного, автоматически обесценивает другие. Не следует преувеличивать роль и значение информации и образования, превращаясь в утопистов. «Можно сказать, что талант не может проявиться без технических методов – тренировок, репетиций, овладением теми или иными навыками. Однако важно то, что техника не создает даров, а лишь эксплуатирует их. Музыкальному слуху и хорошему вкусу ясно отсутствие самого феномена искусства в бездарной музыке и бездарных стихах, держащихся на одной лишь декламаторской версификаторской технике. Оказывается, что техника не может подменить двух вещей, которые условно можно назвать данными и талантом, а вместе – даром»71, – замечал С. А. Фёдоров. Сказанное относится не только к образованию, но и к информации. Показательно, что сам Д. Белл не слишком оптимистично оценивает роль информации в её связи со свободой в постиндустриальном обществе. Так он предвидит обострение информационного дефицита по следующим причинам:
– больший объём информации увеличит её неполноту, при этом возрастут издержки по её сбору и хранению;
– информация будет всё более специализироваться, что затруднит её восприятие и понимание;
– рост скорости передачи и объёма информации сделают актуальной проблему ограниченности индивида в его способности воспринимать и перерабатывать информацию;
– обострятся проблемы осмысления и интерпретации информации;
– получит широкое распространение дилетантизм как малое знание о многом (все эти прогнозы сбылись).
По сути, Белл признает, что эта система станет обществом координационного, временного и информационного дефицитов, в котором рост благосостояния будет соответствовать уменьшению свободы, – а значит прогрессирующему росту социальной ограниченности. В результате, как справедливо писал А. В. Бузгалин, информационно-постиндустриальное общество оказывается тупиковой ветвью социального развития72.
Технические и технологические ограничения тесно переплетаются с информационно-образовательными, т.к. образование во многом само является, а по мере его информатизации становится технологией. Эти ограничения являются производными от научных и онтологическо-гнесеологических, в меньшей степени – эстетических и языковых. Субъектом этих ограничений выступает социальная фигура Техника (Ф. Г. Юнгер) и технократа. Своё выражение эти ограничения находят в отсутствии (несовершенстве) или наличии тех или иных технических средств и технологий, способах и результатах их использования. Двойственность в понимании технических и технологических ограничений обусловлена тем, что они могут рассматриваться с позиций их субъекта и объекта. Для технократически ориентированных деятелей и мыслителей – Ж. Аттали, Д. Белла, З. Бжезинского, К. Маркса, П. Пильцера и других техника – это инструмент присвоения «безграничного богатства», которое по формуле П. Пильцера равно сырью, умноженному на технологию; техника и технология – это ключ к накоплению ресурсов73. Как замечал в этой связи М. Хайдеггер, «сущность техники не есть что-то техническое. Поэтому мы никогда не почувствуем своего отношения к сущности техники, пока будем думать о ней, пользоваться ею, управляться с ней или избегать ее. Во всех этих случаях мы еще рабски прикованы к технике, безразлично, утверждаем ли мы ее с энтузиазмом или отрицаем»74. Подлинная сущность техники по Хайдеггеру заключается в воле к власти и тотальному контролю над бытием, а не просто присвоению богатства природы, что является лишь частью её сущности. Техника это инструмент извлечения и присвоения богатств окружающего мира и его подавления и контроля в случае сопротивления этому. Поэтому техногенная цивилизация в целом по отношению к природе является воровской, пиратской и полицейской, что, конечно же, не может не иметь закономерных печальных последствий в её внутреннем устроении (в частности, подобное «пиратское» отношение к природе помешало построению социализма и коммунизма в СССР и других странах). Для субъекта техногенного подавления и, фактически, ограбления бытия социальная ограниченность техники и технологии проявляется в её несовершенстве в плане достижения результатов её властно присваивающих функций. А так как аппетиты технократического субъекта безграничны, то снятие технико-технологических социальных ограничений в этом случае видится как бесконечное совершенствование техники и технологии с перспективой создания нового абсолютно искусственного и подконтрольного мира и аналогичного человека (и уничтожения мира и человека естественного)75. Однако этот искусственный мир обречён на гибель, так как по справедливому замечанию Ф. Г. Юнгера техника и технология не создаёт ничего нового, она лишь эксплуатирует и преобразует или разрушает то, что уже есть. А так как технократия ориентирована не только на присвоение и потребление богатства, но и на тотальную власть, то она просто не может, в принципе, допустить существование не клонированных людей, генетически не модифицированных растений, лесов, выросших естественным образом, а не посаженных, даже нестриженой травы на газонах. Поэтому с точки зрения объектов, подвергающихся воздействию техники и технологии, социальным ограничением является её развитие и совершенствование.
«Глобальный технологизм ведет к превращению человека из социально-культурной личности в человеческий фактор Техноса. Человеческий фактор, бурно протестуя против ограничения своей свободы культурными регуляторами, довольно легко смиряется, если они будут техническими. Лишение индивида имени, замена его номером и тем более „клеймение“, всегда воспринималось как надругательство над достоинством человека. Но если номер обещают ставить лазерным лучом и хранить в компьютере, то у „прогрессивной общественности“ особых возражений нет… Обыск в форме ощупывания одежды руками отвергается как нечто унизительное, но если по телу водят электронной палкой, все стоят как покорные бараны… Лишь бы не со стороны живых людей, не от имени культуры, техникой – и свободолюбивые76 либералы соглашаются на самый тотальный контроль. Открытое гражданское общество закрыто и регламентировано на меньше, чем традиционные, культурные, разница в том, что закрытость здесь „усовершенствованная“, технологическая. В условиях глобализации демократия вытесняется технократией»77, – справедливо замечает В. А. Кутырёв.
Поэтому антитехнократические позиции являются вполне обоснованными и закономерными попытками борьбы с техническими формами социальных ограничений, даже в таких радикальных формах, как движение луддитов, потому, что сегодня мы видим уже попытки техногенного уничтожения человека78. Сегодня луддитов можно рассматривать как прозорливых борцов против грядущего уничтожения человека техникой. Вспоминается и Фома Аквинский, сокрушивший робота, созданного его учителем Альбертом Великим. Сегодня уже понятно, чего он так опасался и впору ставить памятник этому его действию. «Духовная культура все менее котируется в наш машинный век, ибо механическая цивилизация легче усвояема, чем подлинная культура. Она требует больше внешней привычки, чем духовного воспитания. Технически цивилизованный человек может быть (и нередко бывает) дикарем в культурной области. Он может превратиться в гориллообразного робота с атомной бомбой в руках»79, – прозорливо писал С. А. Левицкий. Осталась ли эта возможность лишь нереализованной, или реализовывать её было и не нужно в силу изначальной близости «технически цивилизованного человека» к этому гориллообразному состоянию, на что, в частности, по-своему указывали К. Маркс и Ч. Дарвин? В китайской культуре подобное состояние называли «развитым варварством». В общем, сегодня робота вполне можно считать аналогом средневекового дьявола и беса: там деградационная химера человека и зверя, здесь – химера человека и машины. Современные духовные подвижники призваны осуществлять уже не только бесоборческий, но и роботоборческий подвиг…
«О догматизме Техника можно сказать следующее: по своей жесткости и эффективности этот догматизм не уступает теологическому. В той части, которая касается знаний о ходе развития аппаратуры и организации это не ощущается, поскольку здесь каждое новое изобретение неизменно уничтожает предшествующие достижения, отбрасывая их как ненужный хлам. Не знание как таковое, а вера в это знание делает технократов догматиками. Техник либо вообще не задумывается о нужности своего знания, либо не ставит ее под сомнение. И более того! Он еще и не терпит, чтобы другие задумывались о нужности его знания или ставили её под сомнение! Критические высказывания техников по поводу «Совершенства» и «Машины и собственности» поразили меня в первую очередь своей неприкрытой догматичностью. Возражения без каких-либо доводов, голословные утверждения, непоколебимая вера в то, что с помощью машин будут разрешены все трудности, которые в будущем могут встать перед человечеством…»80, – писал в середине ХХ века Ф. Г. Юнгер.
Похоже, однако, что оппоненты Ф. Г. Юнгера в известной мере сами ненамного отличаются от создаваемых ими машин, проявляя в них свою големическую сущность. Ведь догматизм является ничем иным, как формой социальной ограниченности, характерной для биороботизированного строя психики, бездумно механически выполняющего заложенную в него культурно-идеологическую программу. Это уже (или ещё) не человек, а «человеческий фактор Техноса» как верно замечает В. А. Кутырёв. Впрочем, сегодня уже открылась сектантско-религиозная сущность технократизма81. А рациональный диалог с фанатиками труден: «верую, ибо абсурдно».
Советский философ Л. Н. Москвичёв вскрывает сущность технобюрократической идеологии и ментальности, которые, в силу актуальности проблемы, необходимо показать и здесь. Идеал бюрократии заключается в механической эффективности при исполнении предписанных задач без учёта более широкой цели. То есть бюрократ выступает в роли своего рода «управляющей машины», на что намекал ещё М. Е. Салтыков-Щедрин в образе глуповского градоначальника «органчика». «Идеологическим императивом бюрократизированной системы становится требование компетентности, квалифицированности при решении всё более узких специфических проблем»82. А квалифицированность отождествляется здесь с ориентацией на строго фиксированные правила и предписания (по сути – технический регламент), при отказе от каких-либо моральных и идеологических оценок деятельности. Поэтому от бюрократа, скорее всего нельзя будет получить вразумительного ответа о причинах и целях его деятельности. Причинность для него ограничена уровнем законов и инструкций. При этом всё чуждое навязанному бюрократией ритму и направлению общественного развития рассматривается как негативное. Бюрократ подменяет содержание формой, а форму считает содержанием (на наш взгляд, это является разновидностью менталопатии (термин автора), то есть нарушения восприятия, переработки и передачи информации). Пределы внешнего мира ограничиваются у бюрократии сферой её деятельности, которая заключается в улаживании функционально-технических связей и отношений, то есть совершенствовании форм, в несовершенстве которых якобы коренятся все социальные проблемы и противоречия. Других социальных проблем не существует, либо они уже решены, а потому бюрократический мир – «лучший из возможных миров». Таково содержание распространённой сегодня технобюрократической, социально ограниченной ментальности.
Технические социальные ограничения опасны не только своей властно-потребительской установкой по отношению к биосфере, но и своим влиянием на деградацию человека, что и делает их сущность социально ограниченной. По свидетельству Л. Ф. Авилова83, В. А. Межетериной84 и других авторов, человек деградирует вместе с разрушаемой им биосферой. По расчетам Л. Ф. Авилова объём интеллектуальной части мозга неандертальца составлял 1400 ед., кроманьонца – 1700 ед., а современного человека – 1200 ед., то есть 70% от кроманьонца85. «Доктор биологических наук Б. Сергеев, анализируя данные антропологии, пришел к выводу, что со времен первой династии фараонов, мозг человека идет на убыль со скоростью 1 см куб. за каждые сто лет»86. Сходные процессы отмечают и другие авторы. Похоже, что возникшая сравнительно недавно теория происхождения человека от обезьяны косвенно отразила его приближение к ней. Зато в орудиях производства, техники и технологии за это время произошёл большой скачок. Возможно, в будущем возникнет теория происхождения человека от робота (у трансгуманистов это уже почти реализовалось).
Современная реальность опровергла представления многих техноутопистов о том, что освобождённое техникой от труда время, будет потрачено человечеством для творчества и самосовершенствования. Большинство тратит его на примитивные развлечения, часто с помощью той же техники (телевидение, игровые автоматы, интернет, гаджеты и т. д.), пьянство, удовлетворение животных инстинктов, да и зачем развивать свои способности, если всё за тебя сделают машины? Именно так и рассуждает значительная часть современной молодежи. Неиспользуемые потенциалы в результате всё больше и больше деградируют, да и сама техника не даёт обещанной свободы, заставляя тратить время на своё использование, ремонт, обучение управления ею.
С другой стороны, чтобы не использовать технику, живя в гармонии с биосферой, допустим по даосским принципам, требуется очень высокий уровень духовного и психофизического развития. Чтобы следовать путём Дао, нужно не только очень хорошо чувствовать изменения энергетики природы и своего организма, но и уметь строить своё поведение, сообразуясь с ними. Неслучайно на лоне природы поселялись те, кто достиг высших уровней духовного и психофизического развития – святые всех религий, йоги, мистики, даосы. Большинство современных людей неспособны к подобному образу жизни из-за деградации и неразвитости своих способностей, причём технократическая модель развития не даёт, и не будет давать им подобной возможности, являясь, по сути, тупиком, обрекающим их лишь на незавидную функцию узкоспециализированного винтика глобального социокультурного «техноса». Именно эти факторы делают технократический путь развития социально-ограниченной, репрессивной и тупиковой практикой, ведущей к деградации человека и уничтожению естественного мира, даже в том случае, если удастся избавиться от войн и техногенных катастроф, что, однако невозможно, ибо потребительско-властные установки технократизма неизбежно будут порождать конфликтность, а развитие техники – техногенные катастрофы. Единственным путём снятия технических и технологических социальных ограничений, является отказ от техногенной модели развития и возврат к существовавшим в прошлом биогенным, гармоничным с природой и космосом цивилизационным моделям, развитие природоподобных, а не природовраждебных технологий.
Следующая группа социальных ограничений – экономические, находят своё выражение в ограничениях на перемещение, использование и обладание экономическими ресурсами (сырьем, энергией, изделиями, продовольствием) и средствами их обмена и символического выражения (деньгами, золотом, акциями и т.п.). Субъектами этих ограничений выступают их формально-юридические владельцы и фактические распорядители. Объектами экономических социальных ограничений оказываются индивиды и группы, не являющиеся владельцами и распорядителями экономических ресурсов, а также природный мир, являющийся объектом эксплуатации и разрушения в ходе экономической деятельности общества. Согласно догмам господствующей в современном обществе метаидеологии экономические, производственные отношения, являются системообразующим фактором и базисом общества, интегрирующим все остальные подсистемы общества в единое целое. Эта установка является общей для марксизма, либерализма (во всех их разновидностях), и ряда других современных идеологий. Признавая теоретически или практически экономику и экономические интересы первичными, общество тем самым имплицитно признаёт, что его цели – это только потребление, размножение и, неизбежное при подобных установках, разрушение и эксплуатация окружающей среды. Экономические социальные ограничения, таким образом, тесно связаны с этическими социальными ограничениями. При этом приходится признать, что руководствующееся подобной идеологией общество, уступает (то есть находится по этому параметру ниже) биосферным популяциям животных и растений, которые, имея своей внутренней целью подобно экономикоцентричному обществу потребление и размножение, не разрушают окружающую среду, беря от природы только действительно необходимое им для жизни и не более. Именно такой тип потребления природных ресурсов соответствует подлинным законам природы. Потребляя больше необходимого, человечество ведет себя как браконьер и наказывается за это природой через вырождение, «сизифов труд», внутрисоциальные войны (животные не убивают массового своих собратьев по виду, как люди), конфликты, техногенные аварии и многочисленные «болезни цивилизации», которых нет у диких животных и «нецивилизованных» людей. Выигрыш от разграбления природы оказывается иллюзорным.
«Согласно Зомбарту, современную эпоху можно назвать эрой экономики, что точно отражает указанную нами аномалию (превращение экономики из средства в самоцель). Речь идет, прежде всего, об общем характере цивилизации в целом. Поэтому даже внешнее могущество современной цивилизации, достигнутое за счет промышленно-технического прогресса, не может изменить ее инволюционного характера. Более того, эти два аспекта взаимосвязаны, так как весь мнимый „прогресс“ был, достигнут как раз за счет того, что экономический интерес возобладал надо всеми другими. Сегодня можно говорить о самой настоящей одержимости экономикой, в основе которой лежит идея, что как в индивидуальной, так и в коллективной жизни наиболее важным, реальным и решающим является экономический фактор. Вследствие этого в сосредоточении всех ценностей и интересов на производственно-экономической области, усматривают не невиданное ранее отклонение современного западного человека, но нечто вполне нормальное и естественное; не случайную потребность, но нечто желательное, заслуживающее одобрения, развития и восхваления»87, – писал Ю. Эвола, который, кстати, тесно связывал экономическую одержимость с одержимостью сексуальной (т.е. фактически половыми извращениями, т.е. неправильным использованием секса и его энергии, что является основой биологического вырождения). Подобная одержимость экономикой становится причиной преувеличения значимости экономических ограничений и их мистификации. Главной социальной проблемой начинает казаться нехватка денег (или, в лучшем случае, ресурсов), а все усилия направляться на их накопление. Обыватель при этом не понимает, что деньги не являются мерой богатства, так как не обладают сами по себе никакой потребительской ценностью. Деньги, вопреки массовой иллюзии, вовсе не мера богатства, а лишь один из инструментов его приобретения. Будучи универсальным обменным эквивалентом в обществе, где они признаются, они могут быть обменяны как на действительное богатство, так и на проблемы и нищету, посредством приобретения наркотиков, собственности приносящей убытки (машина, телевизор, собака) и прочих бесполезных вещей или услуг. Таким образом, наличие денег самих по себе вовсе не гарант счастливой и благополучной жизни. Обладатель денег обладает не богатством, а лишь потенциальной возможностью его получения и в этом смысле находится не в лучшем положении, чем обладатель знаний, умений, навыков, времени, энергии или каких-либо иных средств производства или потенциального извлечения прибыли. К тому же в современном обществе деньги оторвались от реальных материальных стоимостей и превратились в подобие акций, подверженных колебаниям рыночных курсов. Бесконечное накопление не денежных ресурсов также бессмысленно, ибо если ресурсы не тратятся вовремя и с умом, то, в конечном счёте, достаются не владельцу, а его наследникам, мошенникам, ворам, или крысам и тараканам.