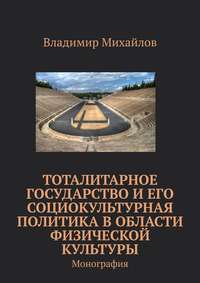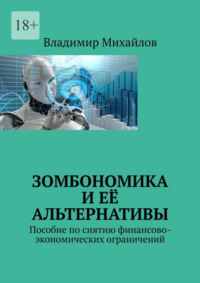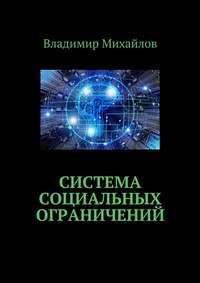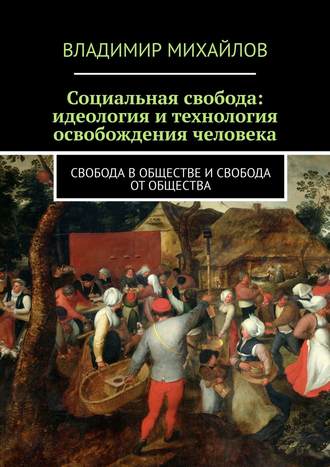
Полная версия
Социальная свобода: идеология и технология освобождения человека. Свобода в обществе и свобода от общества
Если вы отождествляете себя с личностью, то никаких социальных ограничений для вас просто не существует, так как личность – это, как известно, продукт социализации человека в обществе, набор социокультурных программ и отпечатков впечатлений: фактически – робот. Так как освоить всю культуру никто в одиночку не может, то любая личность заведомо уже и меньше породившей её культуры и не содержит ничего, чего нет в ней. А раз личность не имеет в себе чего-то иного по отношению к наличной культуре, то она не может отделить себя от неё и заметить ограниченность этой культуры. Увидеть социальные ограничения может только инаковая или более широкая по отношению к обществу и культуре система: тело, как биологическая система, бессмертная душа, дух и т. п. Поэтому идеологи тоталитаризма отрицали душу и дух, рассматривая человека как биоробота, сущность которого составляет совокупность общественных отношений, не более.
Для видения и осмысления социальных ограничений надо выйти за пределы личности, смотря на социум глазами духа, души и тела или комплекса многомерных тонких тел по выражению эзотериков. Конкретные практики выхода за пределы личности и социальной реальности можно найти, например, в книгах психолога В. Серкина о Шамане18 или у более известного К. Кастанеды и много ещё где.
Сам автор относит себя к «духовным искателям», «людям Пути», садху по классификации Вишнудевананды Гири, тем, кто идет по пути Освобождения и составляет не более 1—3% от населения Земли. «Испокон веков на Земле живет не один, а несколько классов людей, а именно: люди обычные, обыкновенные, разумные (хомо сапиенс); люди Пути, садху (те, кто идет по пути духовного развития, хомо спиритуалис); джняни (Знающие, достигшие мудрости, святые); сиддхи (Совершенные). Национальные, культурные, религиозные, социальные различия не так сильны, как различия между этими классами существ. Это действительно существа совершенно разные по мировоззрению, ценностям, способам выполнения когнитивных операций, методологии познания мира, энергетике, скорости мышления и образу жизни. Это словно разные расы, сосуществующие друг с другом на планете Земля. Облик, конечно, одинаковый, но сходства на этом заканчиваются. У каждой расы своя особенная психология, этика, картина мира, система ценностей, цель жизни, а иногда – даже физиология!»19, – отмечает Гири. Именно для таких искателей и предназначен, в первую очередь, этот труд.
В заключение предисловия выдвинем одну очень смелую и сильную гипотезу: любая проблема решается посредством снятия ограничений, а не их наложения. «Держимордианство» ориентированное на обратное – признак неумения управлять и эффективно решать проблемы! Свобода выше ограничений, также как благодать выше закона! Культ ограничений неэффективен. Ограничители начинают и проигрывают (в эволюции) и выигрывают в инволюции… Это, своего рода коперниканианский переворот в современной «заборостроительной» теории управления, базирующейся именно на примате наложения различных ограничений.
Есть у нашей работы и некоторое академическое измерение. Это своего рода монография под «академическую диссертацию», которая есть следующая (невидимая, тайная) ступень после докторской. Логика здесь такая. Исходя из официальных требований ВАК к кандидатским и докторским диссертациям – кандидатская – это ученическая работа, позиционирующая автора как высококвалифицированного специалиста в довольно узкой, ограниченной сфере. Докторская работа – другая, это уже работа мастера, вносящего свой оригинальный вклад в науку20, то есть создающего некую свою систему, модель, рамочное пространство, внутри которого действуют кандидаты наук. Возникает вопрос: «а что же дальше»? Создал некую систему и что? А вот дальше, на наш взгляд и лежит выход за пределы созданной системы, например, «научной парадигмы», то есть «научная революция», то есть снятие системных, парадигмальных, социальных и прочих ограничений! То есть, академическая диссертация, следуя этой логике, должна быть выходом за пределы систем, формируемых на уровне докторских диссертационных работ. То есть – от функционирования в «чужой» системе, к созданию своей системы и выходу из своей и чужих систем. Способность к теоретическому и практическому выходу за рамки своей и не своей систем соответственно определяет более высокую квалификацию такого автора, ибо свобода выше её ограничения, как мудрость выше разума, а Благодать выше Закона…
Те, кто с этим не согласен пусть подтвердят сами свою квалификацию «мастеров свободы» или помалкивают, в силу своего невежества…
Итак, ниже мы даем научное определение социальных ограничений.
Социальные ограничения являются необходимой системой социальных детерминант, определяющих спектр возможностей, становящихся социальной действительностью в процессе общественных отношений и общественной практики. Система этих детерминант отражает закономерный, необходимый характер социальных явлений, социального действия и предстаёт в виде совокупности эксплицитных и имплицитных социокультурных правил и норм, моделей поведения, стереотипов мышления, средств, способов и результатов самовыражения людей, которым они сознательно и (или) бессознательно подчинены и за пределы которых не могут или не хотят выходить даже тогда, когда это необходимо для них самих и (или) общества, в котором они живут. Из данного определения следует, что в роли социальных ограничений могут выступать не только идеальные нормы и стереотипы поведения, но и продукты материальной культуры. Следовательно, социальные ограничения имеют смешанный, идеально-материальный характер, что отделяет их от идеальных норм. Синтетическое, обобщённое рассмотрение норм, стереотипов поведения и материальных артефактов позволяет увидеть их общую ограничительную функцию, которая при ином ракурсе их рассмотрения не очевидна. Снятие социальных ограничений осуществляется посредством девиантного (отклоняющегося) поведения, которое может быть позитивным (творчество) и негативным (преступность). Эксплицированное автором понятие социальные ограничения является новым, ибо ранее подобной экспликации не было.
Следующий раздел представляет собой отредактированный параграф из монографии, в котором представлена авторская модель структуры социальных ограничений, чтобы читатель мог точнее разобраться, что же собственно надо снимать и от чего можно освобождаться. Если этот раздел неинтересен или сложен для восприятия, то его можно пропустить, просто просмотрев структуру ограничений в его конце.
Глава 1. Структура социальных ограничений
Структурные компоненты системы социальных ограничений являются формами проявления системообразующего фактора социальных ограничений – воли общества к самосохранению и самоутверждению на разных уровнях культуры.
Главным, с содержательной точки зрения, атрибутом системы социальных ограничений является концепция реализуемого этим обществом социокультурного проекта, содержащая его главные ценностно-целевые установки и константы, в особенностях которых концепция и находит своё выражение. Концепция имеет статико-метафизический характер, т.к. в случае её изменения социокультурный проект не будет реализован. Уровень концептуальных социальных ограничений является высшим и одновременно наиболее скрытым уровнем социальных ограничений. Многие мыслители предпринимали попытки выявления концептуальных основ различных цивилизаций. Например, И. Л. Солоневич попытался выявить эти основы у России, а так как выявленное им показывало преимущество русской цивилизации над западной и многими другими, то его работы стали замалчиваться. Сходные попытки выявления «русской идеи» как цивилизационной концепции предприняли Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, А. С. Хомяков и другие авторы21. В настоящее время актуальным является выявление концепции Западной цивилизации, принудительно навязывающей свою систему социальных ограничений всему миру. Интересные материалы об этом содержатся в работе А. Шлезингера22, обсуждающего достоинства и недостатки проекта «Цивилизации США». Более свежий материал по теме можно найти в книгах А. Ачлея «Битва глобальных проектов»23. В качестве примеров существования подобных концепций можно привести различные религии, в которых эти концепции содержатся имплицитно, поэтому их выявление требует аналитико-синтетической и герменевтической работы. Такие различные концепции жизнеустройства можно вычленить в Ветхом и Новом Заветах Библии, в Коране, Законах Ману, священных текстах других религий.
В качестве примера попытки вычленения подобной концепции можно привести монографию В. Г. Тахтамышева «Библейская идеология: образ и реальность мира». «Завершение формирования корпуса священного текста свидетельствовало о том, что локальная цивилизация завершила процесс своего осознания и дальнейший процесс состоит в полном проникновении учения в общественную реальность»24, – писал В. Г. Тахтамышев. Конечно, эта концепция не обязательно носит религиозный характер. Так, библейский текст «своё содержание… выражает в религиозной форме. Хотя эта форма и противостоит религиозному догматизму, всё же последний примиряется с ней и признаёт её в качестве своей. Будучи признанной религиозным сознанием и оказывая разрушающее воздействие на него (которое последним часто не осознаётся), Библия является уникальным средством управления религиозным сознанием и удержания его в позитивных для общественного целого рамках»25, – отмечал В. Г. Тахтамышев.
Как видно из данной цитаты, по небезосновательному мнению В. Г. Тахтамышева, заложенная в основу Библии концепция и выражающая её идеология носит нерелигиозный характер. Вообще, вопрос о границах религиозных и нерелигиозных (светских) учений и идеологий является спорным. Например, Р. Эпперсон считал, что религией является светский гуманизм, приводя в качестве одного из аргументов решение Верховного Суда США: «суд постановил: «Среди религий страны, которые не учат тому, что обычно рассматривается как вера в существование Бога – буддизм, даосизм, этическая культура, Светский гуманизм и другие»26. Р. Генон полагал, что существует всего три религии: христианство, иудаизм, ислам и множество метафизических систем. Нередко светские идеологии подобные марксизму причислялись к псевдорелигиям. В принципе идеологические ограничения можно приравнять к религиозным в тех случаях, когда религия является не связью с трансцендентным, а культивированием отчуждённых от человека его собственных продуктов и потенций, как это показано у Л. Фейербаха. Примером такой псевдорелигии является описанный Д. Неведимовым, но плохо осознанный в обществе товаро-денежный фетишизм – «религия денег»27. Такая религия, полностью имманентная и социальная, тождественна идеологии и является системой идеологических ограничений.
Однако в любом случае различие являющихся основой идеологий религиозных и светских концепций порождает разнообразие исходящих из них систем социальных ограничений.
Идеология, в отличие от концепции, носящей предельно абстрактный характер, является приспособлением концепции к условиям внешней – природной и социальной среды и особенностям подвергающихся идеологической обработке людей. Идеология имеет менее абстрактный и более детализированный характер по сравнению с концепцией и соответственно более подвижна и подвержена изменениям. Субъектом-носителем идеологии выступают рационально осознающие основы господствующей концепции идеологи. «Только подавляющее меньшинство членов общества способно действительно рационально и в полном объеме постичь и осмыслить логику «правящих идей», их взаимосвязь, их гармонию. Массам же эта «элита» передает определенные готовые нормативы, выведенные из «правящей идеологии»28, – отмечалось в журнале «Элементы». Идеология находит своё выражение в системе специфических мировоззренческих представлений, способствующих реализации данной концепции. Например, в марксизме концептуальной цели пролетарской революции соответствовало мировоззренческо-идеологическое представление об огромной роли ручного труда в становлении и развитии человека. Так как буржуазия не была занята ручным трудом, то подспудно получалось (хотя открыто этого не говорили), что она дальше отстояла от человеческого архетипа, чем пролетариат, была ближе к обезьяне и поэтому господствовала необоснованно. В кальвинизме по аналогичным причинам возникло представление о божественной благодати, якобы осеняющей богатых.
Одним из проявлений первичных форм идеологии является язык, который определяет, что и как вообще можно высказать и описать. Социальные ограничения языка проявляются в его грамматике, фонетике, орфографии, синтаксисе, пунктуации, количестве букв, иероглифов и прочих особенностях. Сложно согласиться с идеей В. фон Гумбольдта о том, что «мышление без языка попросту невозможно»29, что границы языка определяют границы мышления, как полагали некоторые позитивисты, не учитывая возможностей внеязыкового, несловесного, образного мышления30. Однако то, что невозможно или затруднительно выразить в существующем языке так и остаётся в форме туманных интуиций, мимолётных образов, неясных чувств, эмоций и томлений, то есть фактически вытесняется за рамки культуры и общества, оставаясь невыраженной частью внутреннего мира людей. Таким образом, язык как первичная форма идеологии является матрицей возможных для выражения состояний и чувств, определяющей их форму, взаимосвязи и комбинации. Что-то при этом получает возможность выражения, а что-то не получает, не случайно многие философы говорили о нехватке языка, о том, что у философии нет своего языка, и она по необходимости вынуждена косноязычно говорить на чужом (Г.-Г. Гадамер).
В России широкомасштабная секуляризация языка осуществлялась в XVIII веке, начиная с правления Петра I. Ф. Прокопович рассматривал церковно-славянский язык как непросвещённый и препятствующий просвещению, как язык ложного знания, стоящий на пути знания подлинного, как язык непонятный и мешающий пониманию31. Это показывает, что идеология Просвещения требовала для своего внедрения адекватного ей языка, который бы, в отличие от церковно-славянского, не мешал её усвоению.
Язык как матрица возможностей развития внутренних сил человека и система первичного моделирования мировоззрения, хотя бы посредством акцентуации и связывания различных проявлений мира, является очень важной формой социальных ограничений, предопределяющей возможности выражения внутренних сил человека и акцентирующей (скрывающей) те или иные аспекты мироздания. Эти возможности и ограничения языка являются, по сути, концептуально предопределёнными, поэтому любая оригинальная концепция пытается выстроить свой язык, а иногда и навязать его обладателям других языков.
Языковые социальные ограничения, являясь одной из базовых, первичных их форм буквально пронизывают всю культуру и все элементы системы социальных ограничений.
Другой формой проявления идеологии, причём зависимой от языка, является этика. Этика определяет негативное и позитивное в действиях и мышлении людей и предписывает, как им следует себя вести в той или иной ситуации. Этика определяет основные морально-нравственные установки людей живущих в определённой культуре и находит своё выражение в содержании и структуре моральных норм. Этические социальные ограничения могут быть более примитивными, писанными, как 10 заповедей Моисея, а могут иметь и более сложный, не фиксированный характер. В последнем случае этические ограничения задаются в каждом конкретном случае исходя из ценностно-целевых установок соответствующей концепции (идеологии) и не поддаются формальной рационализации подобно механистическим нормам Ветхого Завета.
Этика как одна из форм идеологии является своеобразной и изменчивой в различных культурах и идеологиях. Так, в марксистской этике владение частной собственностью и основанная на ней эксплуатация человека человеком считаются аморальными, а для Т. Гоббса наоборот, частная собственность – стержень свободы человека, а эксплуатация такое же естественное явление как война всех против всех. По мнению одного из современных теоретиков либерализма Р. Дворкина, вопрос целей человеческой жизни и благой жизни для человека вообще не разрешимы, а правила морали и права не выводятся и не обосновываются в терминах более фундаментальной концепции блага для человека. Как отмечает А. Макинтайр, в этой позиции Р. Дворкина проявилась особенность современной этики в целом32. Это показывает, что добро и зло для либеральной этики равноправны, то есть либерализм субстанционально аморален. Отсюда закономерно вытекает пропаганда терпимости к наркомании, гомосексуализму и прочим порокам, закономерно сочетающаяся с попытками привлечения к суду активных оппонентов либеральной идеологии. Последними аргументами в этом случае оказываются сила и манипулятивное убеждение. Поэтому, как констатирует в своём исследовании, посвящённом этической истории Запада А. Макинтайр, сегодня господствующей стала этика своевольного индивидуалистического эмотивизма, ограниченного лишь эмотивизмом окружающих. Подобная ситуация свидетельствует о распаде единого этического пространства заражённых этим явлением обществ, что в известной мере ограничивает его членов.
Этические ограничения, носящие в общем внутренний, рекомендательный характер воплощаются в правовых ограничениях, имеющих уже обязательный характер. В отличие от этики, право имеет более механистичный и изменчивый характер, подобно всем низшим, вторичным социальным ограничениям по сравнению с высшими, первичными. Правовые ограничения часто запутаны, двусмысленны, противоречивы и не способны охватить собой все явления жизни, а потому нуждаются в корпусе истолкователей (юристов) и применителей (судей, чиновников и т.п.), которые при конкретном применении тех или иных правовых норм руководствуются в конечном итоге именно этическими установками, в том числе и маскируемыми под «интересы» и «потребности». Этические социальные ограничения как представления о хорошем и плохом, допустимом и недопустимом, должном и не должном в очень значительной степени детерминируют не только правовые, но и экономические, политико-управленческие, научно-технические, информационно-образовательные, военно-силовые сферы и отношения общества. Значение этических установок и ограничений хорошо показано в работе М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма»33.
Эстетика как социальные представления о прекрасном и безобразном, изображаемом и не изображаемом, гармоничном и дисгармоничном также является одной из базовых форм идеологии. Эстетические нормы очень важны для материальной культуры в целом, а не только для искусства, ибо, в конечном счете, именно они определяют облик и формы большинства изделий материальной культуры, вид наших городов, одежды, всего рукотворного мира. «Шапка-мурмолка, кепи и тому подобные вещи гораздо важнее, чем вы думаете; внешние формы быта, одежды, обряды, обычаи, моды, все эти разности и оттенки общественной эстетики… вовсе не причуда, не вздор, не чисто «внешние вещи», как говорят глупцы, нет, они суть неизбежные последствия, органически вытекающие из перемен в нашем внутреннем мире, это неизбежные пластические символы идеалов, внутри нас созревших или готовых созреть…»34, – писал К. Н. Леонтьев.
Также как этические социальные ограничения, многие эстетические нормы принимаются большинством людей бессознательно (что указывает на их неразумность). Как замечает Р. А. Уилсон, мало кто захочет есть из квадратной тарелки, но как можно добавить, мало кто и задумывается, почему тарелки круглые. Эти социальные ограничения наиболее значимы в искусстве и нашли свое выражение в представлениях о прекрасном и различных канонах художественного творчества.
Эстетические нормы также отличаются широким разнообразием, «цветущей сложностью» среди разных культур. В иудейской и исламской культурах, например, запрещено изображение человека и животных, так как это якобы является попыткой узурпацией божественного права на творение живого и недостойным его копированием. В противовес этому в этих культурах получили развитие геометрические и растительные орнаменты. Подобные запреты на изображение человека и животных является типичным социально эстетическим ограничением имеющим, однако, этический источник, так как изображать живое – это в господствующих в этих обществах религиях грех. Если попытаться выявить концептуальные основы этого запрета, то можно предположить, что его негативной основой была цель ограничить образное мышление у данной группы людей, а позитивной – развить у них в противовес абстрактно-логическое мышление и восприятие или, допустим, отвлечь их от внешнего мира и обернуть к миру внутреннему, духовному.
У одного из индейских племён из джунглей Амазонии всем, достигшим определённого возраста членам племени, подрезали нижнюю губу и вставляли в надрез особую дощечку; у некоторых народностей, живущих в Мьянме и Таиланде, считалось красивым вытягивать у женщин шею посредством металлических колец; в средневековом Китае у женщин красивыми считались маленькие ступни, для чего их с детства туго пеленали, хотя ходить им потом было неудобно. В современной цивилизации эстетические формы социальной незрелости и глупости выражаются в пирсинге, некоторых татуировках, размах которых вынуждает европейских законодателей принимать ограничительные меры. Пирсинг является типичным проявлением этико-эстетической лжесвободы, ведущей к психофизической деградации человека (так как он вреден для здоровья). Как видно, не все «древние заботились о силе и развитии человека как такового, новые – о его благополучии, его имуществе и способности к приобретению дохода»35. К. А. Свасьян в своей работе, посвящённой становлению европейской науки, показывает взаимосвязь гносеологических и эстетических ограничений и норм. «Идеал познавательной чистоты, взыскуемый классической эпохой, странным образом уживался с каким-то свирепым культом телесных неопрятностей»36. Так, от «Короля-Солнца» Людовика XIV, по свидетельству одной придворной дамы, пахло, как от падали, а стены парижских домов, не исключая и королевского дворца, были облеплены грязью, улицы представляли собой сточные канавы. По свидетельству И. Л. Солоневича, при французском дворе на стол ставилась тарелочка для убитых вшей, и ещё в начале XIX века парижане бойкотировали спектакли Шекспира за платок Дездемоны, полагая, что сморкаться следует на землю или пол. С другой стороны, подобная антисанитария способствовала развитию парфюмерии как способа её прикрытия.
К сожалению, многие эстетические ограничения (и свободы) являются по сути ложными, не ведущими к развитию человека. Подлинные эстетические ограничения должны быть природно и человеко соразмерными, подавлять и вытеснять всё уродливое, извращенное, патологическое и безобразное.
Фактологический и исторический материал, описывающий историю эстетических социальных ограничений, содержится в соответствующей исторической и культурологической литературе37. При его осмыслении необходимо обязательно помнить, что эстетические ограничения и свободы являются именно отражением определённой идеологии, как производного социокультурной концепции жизнеустройства. В этом смысле деидеологизация, дерегулирование в культуре и искусстве являются мифами. Свобода эстетического самовыражения ограничена возможностями социального успеха, определяемого господствующими социальными группами и массами потребителей, чьи вкусы формируются теми же господствующими группами через СМИ. Инструментами такого регулирования являются: мода, различные «дресс-коды» в одежде и поведении, этические и правовые ограничения на демонстрацию обнаженного тела и т. п. Многие из этих мод и норм являются неполезными для здоровья и свободы телесного движения, негигиеничными и в целом неразумными. Даже если почти всё и допускается, то далеко не всё поддерживается, неподержанное же обычно обречено на безвестность, прозябание и, в конечном итоге, вымирание. Поэтому, часто разумнее согласиться на позитивные социальные ограничения, чем упиваться лжесвободой.
«Самое главное в идеократии – требование основывать общественные и государственные институты на идеалистических традициях, ставить этику и эстетику над прагматизмом и соображениями технической эффективности, утверждать героические идеалы над соображениями комфорта, обогащения, безопасности, легитимизировать превосходство героического типа над типом торгашеским…»38, – писал А. Г. Дугин. Не похоже ли это на тоталитаризм? Порицаемый многими тоталитаризм ХХ века не ставил подобных целей даже в теории, не говоря о практике.