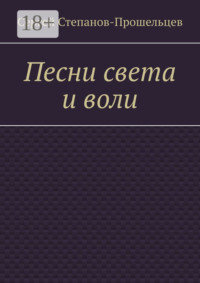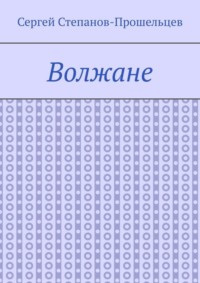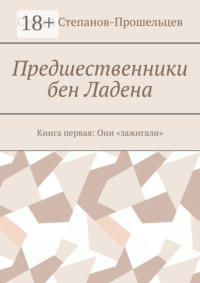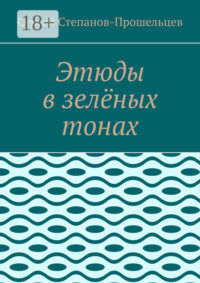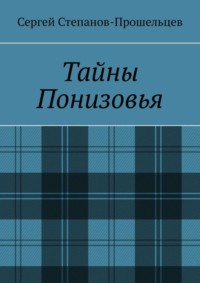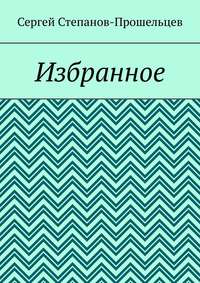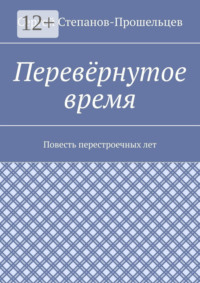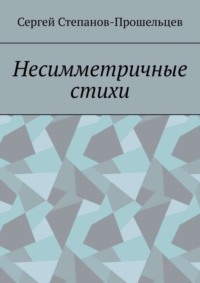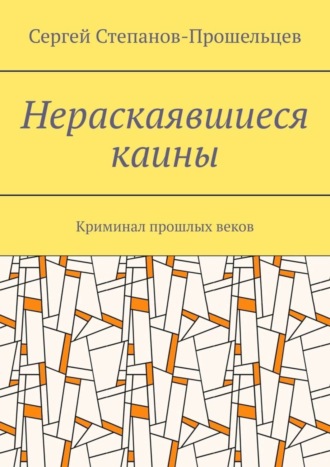
Полная версия
Нераскаявшиеся каины. Криминал прошлых веков
Но было, скорее всего, еще одно обстоятельство, о котором долгое время даже упоминать не дозволялось.
Имела ли место юнкерская «голубизна»?
За что отчислили Лермонтова из Московского университета, не совсем понятно. Знаменитый лермонтовед Ираклий Андронников утверждал однозначно: будущего поэта исключили за вольнодумство. Ссылался он на сомнительное свидетельство, которое вот уже полвека никто не может найти в архивах. Но как раз в вольнодумстве Лермонтов и не замечался. Он, правда, участвовал в одной общей студенческой выходке, когда слушатели двух отделений, собравшись на лекцию профессора Малова, так шумели, что лекция была сорвана. Но тогда за это карцером наказали только Александра Герцена и Андрея Оболенского. Официальная же формулировка отчисления Лермонтова – «посоветовано уйти за нарушения университетского устава» – весьма расплывчата. Белинского исключили несколько позже именно «за вольномыслие». Тут все яснее ясного.
Загадка состоит и в том, что в 1832 году Лермонтова не приняли в Петербургский университет. Почему? Ответа нет. А почему его не допускали на великосветские тусовки? Почему он люто ненавидел знать, а она – его? Ведь он принадлежал к этому кругу, и в то же время был как бы из касты неприкасаемых. Тайна. Может быть, в советское время из архивов тщательно вычищено всё, что так или иначе могло опорочить имя поэта?
Большинство современников склонялось к тому, что Лермонтову «ничего другого не оставалось, как поступить в юнкерскую школу», которая считалась одним из худших учебных заведений. И опять вопрос. Почему именно туда? Почему не в престижный Пажеский корпус, не в Морской кадетский корпус? Предки Лермонтова были потомственными дворянами, дорога туда ему вроде бы была открыть.
Но, похоже, возникли какие-то проблемы. Даже в юнкерскую школу Лермонтов устроился только благодаря протекции начальника штаба войск Кавказской линии Павла Петрова, родственника Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабушки поэта.
Пытаясь разгадать эту загадку, литературовед Александр Познанский из Йельского университета выдвинул неожиданную версию. В 1976 году в США в альманахе «Russian Literature Triguarterly» была опубликована подборка весьма откровенных стихотворений, которые приписывались перу Лермонтова. Это якобы подтверждал и компьютерный анализ текста, сделанный позже. И Познанский в своей монографии «Демоны и отроки» (она выпущена в 1999 году в московском издательстве «Глагол») заключает: великий русский поэт страдал так называемым латентным гомосексуализмом, породившем многие психологические комплексы. Его любовные стихи посвящены не женщинам, а мужчинам, прежде всего однокашникам по юнкерской школе – Михаилу Сабурову и Петру Тизенгаузену. В качестве доказательств Познанский приводит отрывки писем, адресованных Сабурову и Александру Бартеневу. Последний, кстати, явно намекал на близкие отношения Михаила Юрьевича и Мартынова. Мартынов, по его мнению, вызвал Лермонтова на дуэль потому, что ревновал его к женщинам вообще, а Лермонтов ухлестывал за ними только для видимости. И, откровенно говоря, они нередко бросали его (может быть, узнавали о его противоестественных увлечениях?), или же он сам неожиданно оставлял объект своего поклонения.
Книга Познанского вызвала шок и яростные нападки литературоведов. Они не могли смириться с тем, что в число уже документально подтвержденных гомосексуалистов, таких, как Петр Чайковский или Оскар Уальд, попадает еще один великий гений. Увы, мертвые за себя заступиться не могут.
В звании поэта отказано
Мартынова, как правило, называют рифмоплётом. Но стихи его в советское время не цитировались, хотя за всю свою жизнь он написал десятка два стихотворений и поэму. Они действительно не выдерживают никакого сравнения с тем, что вывело на бумаге перо Лермонтова. Но кто может сравниться с гением? А Мартынов, если бы его публиковали, наверное, мог занять место в ряду таких полузабытых стихотворцев первой половины позапрошлого века, как, скажем, Петр Плетнёв или Павел Катенин. Впрочем, Мартынов, похоже, и не видел себя в роли поэта, поскольку ни одно из его творений не является законченным. Но вместе с тем встречаются добротно скроенные строки. Вот как он писал, например, о параде:
«Вся амуниция с иголки,
У лошадей надменный вид,
И от хвоста до самой холки
Шерсть одинаково блестит.
– Любой солдат краса природы,
– Любая лошадь тип породы.
– Что офицеры? ряд картин,
И все – как будто бы один!».
Поэма Мартынова «Герзель-аул» посвящена боевым действиям против чеченцев, в которых автор участвовал лично. В этом сочинении он набрасывает портрет Лермонтова:
«Вот офицер прилег на бурке
С ученой книгою в руках,
А сам мечтает о мазурке,
О Пятигорске, о балах.
Ему все грезится блондинка,
В нее он по уши влюблен.
Вот он в героях поединка,
И им соперник умерщвлён.
Мечты сменяются мечтами,
Воображенью дан простор,
И путь, усеянный цветами,
Он проскакал во весь опор».
В архиве Мартынова есть и незаконченная повесть «Гауша» о любви русского офицера и девушки-черкешенки. Её можно расценить как подражание «Герою нашего времени», но неизвестно, когда она создавалась. Не исключено, что ещё до того, как был опубликован роман Лермонтова.
Если же подытожить, то Лермонтов и Мартынов воспринимали войну на Кавказе абсолютно по-разному. Лермонтов рассматривал её как трагедию, а Мартынов был уверен, что непокорные горцы заслуживают истребления.
Не прошло и четыре года…
После окончания юнкерской школы Михаил Юрьевич был направлен в лейб-гвардии Гусарский полк, расквартированный в Царском Селе, а Мартынов стал кавалергардом. Его полк размещался там же. Но если жизнь Лермонтова в эти годы известна едва ли не поминутно, то, чем занимался Мартынов, – тайна за семью печатями. Никто из исследователей даже и не пытался выяснить: убийца на то и убийца, чтобы он заслужил забвение. А самое любопытное между тем заключается в том, что Мартынов и Дантес служили в одном полку и знали друг друга. Вероятнее всего, что и Лермонтов был с ним знаком. Вот уж где мистика, так мистика!
В 1837 году за стихотворение «На смерть поэта», посвященное гибели Александра Пушкина, корнет Лермонтов был переведен в Нижегородский драгунский полк, расквартированный в ста верстах от Тифлиса. Официально не за крамольные стихи, а за то, что находился в столице без разрешения начальства, иными словами, в самоволке. Признать Лермонтова сумасшедшим, как пару месяцев назад Павла Чаадаева, Николай I не решился: расценят, что дело шито белыми нитками. Повесить, как декабристов, – слишком круто: это тоже вызовет взрыв негодования. Лучше всего не торопиться. Пуля какого-нибудь злого горца непременно найдёт поэта.
Но тут вот какой момент. Чтобы попасть на Кавказ в ряды действующей армии, существовала… очередь. По разнарядке отправляли туда ежегодно лишь по нескольку офицеров от каждого полка. Вспомним: так командировали в наше время омоновцев и милиционеров в Чечню. Поэтому слово «ссылка» не употреблялось даже самим Лермонтовым. Он, наоборот, рвался на свидание с горами. Всячески ходатайствовала перед сильными мира сего, чтобы ее внука вернули обратно в Россию, только его бабушка, Елизавета Алексеевна.
В том же 1837 году отправился на Кавказ и Мартынов. Поближе к сестрам, которые жили в Пятигорске. И здесь бывшие однокашники встретились снова. Как будто что-то тянуло их друг к другу.
Надо сказать, что Лермонтов не слишком-то торопился к месту назначения. Добирался до полка почти… 9 месяцев. В апреле 1837 года прибыл в Ставрополь, где сказался тяжело больным и был помещен в военный госпиталь. Потом его отправили «для пользования минеральными водами» в Пятигорск (этому поспособствовал уже упомянутый Павел Петров). Когда попал в расположение своей части, оказалось, что её перевели в другое место. А когда, наконец, нашёл полк, выяснилось, что пришел указ о возвращении поэта в Россию. Бабушка все-таки своего добилась.
Все это время Лермонтов расслаблялся. Ухаживал за женщинами, много писал, встречался с грузинским поэтом Александром Чавчавадзе, пил кавказское вино, но пару раз все-таки попал под обстрел. И, как явствовало из семейной переписки Мартыновых, опубликованной в 1891 году в журнале «Русский архив», Лермонтов заявил, что его ограбили по дороге. Пропали письмо, дневник и ассигнации, вложенные в конверт, которые Наталья Мартынова, сестра Николая Соломоновича, наказала передать брату. Лермонтов вернул Мартынову только деньги, хотя знать о них, если не вскрывать пакет, он не мог.
Сестра Натальи Екатерина Соломоновна утверждала, что Лермонтов был влюблен в Наталью: « Лермонтов любил сестру Мартынова, который отговаривал её от брака с ним. Однажды, когда Мартынов был в экспедиции, а Лермонтов сбирался ехать в ту же сторону, m-lle Мартынова поручила ему доставить своему брату письмо и в нем свой дневник; в то же время, отец их дал для сына своего письмо, в которое вложил 2 000 рублей серебром, не сказав Лермонтову ни слова о деньгах. Лермонтов, любопытствуя узнать содержание писем, в которых могла быть речь о нём, позволил себе распечатать пакеты и не доставил их: в письме Натальи прочел он её отзыв, что она готова бы любить его, если б не предостережение брата, которому она верит. Открыв в письме отца деньги, он не мог не передать их, но самое письмо тоже оставил у себя. Впоследствии старался он уверить семейство, что у него пропал чемодан с этими письмами, но доставление денег изобличило его. Однако в то время дело осталось без последствий».
Это похоже на правду. Лермонтов посвятил Мартыновой два стихотворения. И версия, что в 1841 году Мартынов вызвал поэта на дуэль, чтобы защитить честь семьи, поскольку Лермонтов читал чужие письма и использовал дневник сестры в романе «Герой нашего времени», имеет право на жизнь. В образе княжны Мери современники узнавали Наталью Мартынову, ставшую графиней Лаутордонне. И, наконец, чашу терпения переполнил дружеский шарж на Мартынова, где он был изображен в мундире с газырями и с огромным кинжалом, сидящим на ночном горшке. Это выглядело очень смешно, и Мартынов буквально взбесился.
Версии официальные
Существует больше десятка версий, объясняющих тайну гибели Михаила Лермонтова. Первая из них проста и логична: представители высшей власти мстили Лермонтову. Они понимали: поэт четко обозначил язвы современного ему общества, точно указал адрес, откуда исходит зло, призывая тем самым свергнуть самодержавие. И враги искусно плели интриги, стараясь натравить на Лермонтова кого-нибудь из его знакомых. Однако молодой офицер С. Лисаневич отказался участвовать в заговоре, а вот Мартынов согласился. Потому царские сатрапы всячески обеляли его, дабы снять клеймо убийцы, изображали дело так, будто поэт сам напросился на дуэль и сам подставил себя под пулю.
Этой точки зрения придерживался и главный советский лермонтовед Ираклий Андроников. Он прямо называл заказчиков – императора Николая I и главу жандармов Бенкендорфа. По словам Андроникова, для организации убийства поэта в Пятигорск был командирован полковник Кушинников, а военный министр Чернышев отправил туда же другого полковника – Тараскина. Но, увы, эта версия оказалась несостоятельной. Пути Тараскина, Кушинникова, Лермонтова и его окружения ни разу не пересекались.
Официальная советская идеология требовала жареных фактов. И вскоре родилась растиражированная официальными средствами массовой информации новая гипотеза: якобы Лермонтов был убит снайпером, спрятавшимся в кустах неподалеку от места дуэли, а не Мартыновым. И сделано это было, дескать, по приказу царя. В качестве неоспоримого доказательства приводилось заключение ординатора Пятигорского военного госпиталя И.Е.Барклая де Толли, производившего осмотр тела Лермонтова. Если он стоял правым боком к противнику и прикрывался пистолетом, как так получилось, что пуля вышла у левого плеча? Совершенно невероятно! Значит, выстрел произведен с противоположной стороны, причем откуда-то сверху.
В наше время криминалисты провели баллистическую экспертизу. Выяснилось: выстрелив первым в воздух, Лермонтов с пистолетом в руке отклонился назад, и пуля Мартынова посланная почти в упор, прошила его как бы снизу вверх, так что версия с «тайным стрелком» не выдерживает критики.
Комплекс Сальери?
Условия дуэли были несоизмеримы обиде, нанесенной Мартынову. Противники начинали сходиться, когда друг до друга оставалось всего 15 шагов. Стрелять можно было до трех раз. Другими словами, поединок заранее предполагал смертельный исход. Но почему такие страсти, если причина дуэли кажется смехотворной? Забавный шарж не мог вызвать в человеке такой реакции, что он становился неуправляем и был запрограммирован на убийство. Значит, была какая-то другая причина?
На следствии о причинах поединка Мартынов говорил так: «С самого приезда своего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, где бы мог он сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет… Он вывел меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову, на каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился положить этому конец».
Но присутствовал ли тут «комплекс Сальери» – комплекс бездаря, завидовавшего гению? Скорее всего, нет, потому что своё будущее Мартынов не связывал с изящной словесностью.
Уже теплее
Так может быть, поэт сам спровоцировал своё убийство? Не исключено. Вот что писал Иван Сергеевич Тургенев о Лермонтове: «Лермонтова я… видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Шаховской, и несколько дней спустя на маскараде в Благородном собрании, под новый 1840 год… В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное… Известно, что в некоторой степени он изобразил самого себя в Печорине. Слова „Глаза его не смеялись, когда он смеялся“ и т. д. – действительно, применялись к нему».
Из этого описания не следует, что, истинная причина гибели Лермонтова крылась в том, что он сам был нацелен на смерть. Но, наверное, это было именно так. Акушерка, принимавшая роду у его матери, сразу же сказала:
– Мальчик умрёт не сам.
Тема ранней гибели проходит сквозной нитью через всё его творчество. – писал он. , – добавлял поэт в другом своем стихотворении. «Я предузнал мой жребий, мой конец, и грусти ранняя на мне печать», «Кровавая меня могила ждёт, могила без молитв и без креста»
Лермонтов редко участвовал в стычках с чеченцами. Но если участвовал, то демонстрировал полное презрение к смерти. Он, как писал историк Тенгинского пехотного полка Д. Ракович, принял командование над отрядом разведчиков. «Эта команда головорезов, именовавшаяся „лермонтовским отрядом“, рыская впереди главной колонны войск, открывала присутствие неприятеля, как снег на головы сваливаясь на аулы чеченцев… Лихо заломив белую холщовую шапку, в вечно расстегнутом и без погон сюртуке, из-под которого выглядывала красная канаусовая рубаха, Лермонтов на белом коне не раз бросался в атаку».
Но почему Лермонтов искал смерть? За что же так не любил себя? На этот вопрос ответа нет. Тайну унесли с собой в могилу и гениальный поэт, и человек, который считался негодяем и полным ничтожеством. Впрочем, это тоже расхожий штамп.
* * *
Мартынова разжаловали и приговорили к трехмесячному заключению на гауптвахте. Но Николай I заменил отсидку церковным покаянием. Епитимья, то есть замаливание грехов, должна была продолжаться 15 лет, но в 1846 году Святейший Синод простил убийцу.
С этого момента он жил в Нижнем Новгороде. Женился на Софье Проскур-Сущанской. Она родила ему 11 детей. В дальнейшем многочисленное семейство перебралось в Подмосковье, а затем в саму Москву. Мартынов умер в возрасте 60 лет и был похоронен в селе . Но в 1924 году в усадьбе Мартыновых разместили детскую колонию, а трудармейцы учинили форменный погром. Они разрушили фамильный склеп, а гроб с останками Мартынова утопили в пруду. Иевлево
И последнее. Портреты Николая Мартынова, как и Михаила Лермонтова, сильно отличаются друг от друга. Почему? Загадка. Такая же, как и смерть великого поэта.
КУЗЬКА-БОГ
Настоящее сражение развернулось два с лишним века назад на территории нынешнего Дальноконстантиновского района Нижегородской области. Сектанты под началом своего духовного лидера Кузьки-бога отчаянно сопротивлялись…
Терюхане
Терюхане – племя, ответвившееся от основной группы племен мордвы, жившее в сорока селениях Терюшевской волости Нижегородской губернии. Терюхане очень рано вступили в тесные контакты с русскими, но православие приняли только в середине XVIII века, позабыв к тому времени эрзянский язык, но сохранив свою самобытную культуру.
В памяти терюхан еще живы были картинки и далекого прошлого, и того, что творилось совсем недавно. Нижегородские князья вытеснили мордву из обжитых мест, всячески притесняли исконных хозяев этих земель, облагали их непомерными податями. Терюхане, как и другие племена мордвы, отчаянно сопротивлялись. После нашествия Батыя мордовские ратники служили в войсках хана и доставляли татарам звериные шкуры, мёд, соколов и кречетов для охоты. Как писал Павел Мельников-Печерский в «Очерках мордвы», «При вторжениях татар… обыкновенно являлись путеводители, указывавшие только им одним известные дороги по лесным дебрям. Во время таких нашествий мордва… грабила то, чего не успевали или не хотели ограбить татары».
Нижегородцы жестоко мстили. В 1378 году после того, как Алабуга и другие мордовские князьки вместе с татарами разбили рать нижегородскую, князь Борис Городецкий «опустошил землю мордовскую». Пленников волочили по льду Волги, травили собаками.
Во время Смуты мордва сражалась с царскими войсками на стороне Лжедмитрия II. Шайки разбойников нападали на проезжавших по большим дорогам, ловили гонцов и отправляли их к Самозванцу. В конце концов, они осадили Нижний Новгород, но взять его не смогли. И тем не менее мордва не успокоилась. В окрестностях Нижнего, Арзамаса, Курмыша, Ядрина и Алатыря она скрывалась в лесах и оврагах и в продолжение всего 1607 года то и дело нападала на войска царя Василия, грабила русские деревни.
Все это повторилось и во время бунта Стеньки Разина, а еще в большей степени – в ходе обращения мордвы в православную веру, поскольку крещение было в основном насильственным.
«Чудотворец» из Макраша
О Кузьке-боге я узнал из ветхих журналов «Отечественные записки» за 1866 год, доставшихся мне в наследство от бабушки. В своей обширной монографии некий господин К. подробно описывал события, развернувшиеся на территории Терюшевской волости.
Кузька, по словам господина К., был родом из деревни Макраш. Он был грамотен и обладал экстрасенсорными способностями, лечил людей. И пользовался огромным авторитетом. Его считали пророком, святым, чудотворцем. Но обликом своим Кузька производил отталкивающее впечатление. Лицо его было изрыто оспинами, взгляд маленьких, глубоко посаженных глаз никто не выдерживал.
В детстве Кузька некоторое время жил у друга своего отца, который входил в раскольничью секту «душителей» – они называли себя «делатели ангелов». Эта секта была очень богатой и пользовалась странным покровительством властей. Наверное, за подношения. Если другие секты подвергались гонениям, то «душителей» почему-то не трогали.
В секте был свои доморощенные «Христос», «Богородица», «жены-мироносицы». И Кузька уже тогда вынашивал мысль о создании своей, кузькиной фирменной секты по образу и подобию «душительной». Подтолкнуло к этому и то, что, разъезжая по торговым делам, он влюбился в жену арзамасского подъячего. Напоив своего благоверного, коварная женщина-вамп переспала с Кузькой, но наутро исчезла вместе со всеми его сбережениями. И Кузька затаил злобу на всё человечество.
Он ушел в домик, построенный в дремучем лесу. И здесь стал экспериментировать с фигурками ангелов, двигая их за веревочки. Создавалось такое впечатление, что они летают.
В Кузькину обитель стали стекаться любопытные. И он, как писал Михаил Пыляев в очерке «Стародавние старички, пустосвяты и юродцы», опубликованном в 1897 году, «был провозглашен Богом». Легковерные терюхане завалили Кузьку своими припасами: сычёным пивом, медовым квасом, зеленым вином, всякими яствами, и он жил припеваюче. А попутно изобрел новую религию. Она состояла из древней языческой веры, богослужений православной церкви и обрядов секты «душителей», которые заканчивались нередко тем, что кто-то из членов секты отдавал концы – его банальным образом душили.
На гребне волны
Кузька оказался на гребне волны. Он катался, как сыр в масле. Богослужения отправлял на священной поляне, где поклонялись предки терюхан своим языческим богам. Кузька сам выбрал двенадцать «апостолов» и «святую Пятницу» (это была Степанида, одна из его любовниц).
Монологи Кузьки-бога были полной бредятиной. Михаил Пыляев приводит такой текст: «Служите мне, Христосику, верой-правдою… Наказываю вам сохранить нашу святую веру в тайной тайности. А кто не сохранит нашей тайности, того я велю разорвать на этих двух дубах согнутых. Верный мне апостол, Григорий, покажи пример, чтобы все казнились от малого до великого».
И казни практиковались.. К пригнутым к земле вершинам деревьев сначала привязывали теленка, а когда вершины распрямлялись, как писал господин К. в «Отечественных записках», «теленок разрывался так быстро, что не мог усмотреть глаз; разорванные части мелькали в воздухе, мельчайшие брызги теплой крови проносились по поляне и в виде красноцветного пара охватили народ; оторванная голова взвилась вверх и упала в сотне саженей от места».
Терюхан охватывал ужас, а Кузька пользовался моментом.
– То, что вы сейчас видели, – говорил он, – уготовано всякому, кто скажет русским про нашу веру и укажет место, где мы собираемся на моленье.
После этого Кузька отбирал трех наиболее видных девиц якобы для послушания, а на самом деле насиловал их и делал своими любовницами. В его гареме насчитывалось тридцать три женщины. Некоторых, наиболее строптивых, он приказывал закапывать живыми в землю. Это делали его «апостолы».
Кузька внушал своим наложницам, что любовная связь с ним Что она . «совсем не то, что с простым человеком». «не составляет никакого греха и не лишает девушку чистоты и непорочности». И они в это верили
Кабатчики такого не стерпели
Первыми, кто выступил против Кузьки-бога, были владельцы кабаков. Терюхане после того, как обретали Кузькину веру, перестали их посещать. Кабатчики были на грани банкротства. И они обратились с челобитной к нижегородскому губернатору. В ней они написали и о любовных похождениях Кузьки, и о его мошенничестве, и о взятках, которые получали местные священнослужители, и о жертвоприношениях секты. Приводился и самый последний пример. Кузька распорядился казнить любовника своей наложницы Афросиньи Пахома. Его разорвали на дубах, как теленка. Все это происходило на глазах Афросиньи, и она сошла с ума и вскоре утопилась в колодце.
Эта жалоба была не единственной. Арестовать зарвавшегося Кузьку было поручено капитану-исправнику. Если точнее, земскому исправнику, председателю губернского суда. Тот, собрав понятых, отправился на молельную поляну, где находился Кузька. Но понятых и капитана-исправника встретили дубинами. Терюханы не давали в обиду своего бога. И представителю закона не оставалось ничего, как ретироваться.
Ожидая, что полиция может нагрянуть снова, члены секты устроили завалы на дорогах, разобрали все мосты через ручьи и овраги. И новая экспедиция, предпринятая капитаном-исправником, закончилась весьма печально. «Душители» окружили карету, где он находился, вытащили его оттуда, скрутили руки и повели к дубам, где был растерзан Пахом. Останки его бросили в болото.
Конец шарлатана
Об этом стало известно в Первопрестольной. Возмущению Александра I не было предела. Он повелел «стереть в порошок оного Кузьку».
Вскоре в Макраш прибыл отряд казаков численностью 500 человек во главе с новым исправником. Завалы на дорогах были быстро расчищены, и казаки, как сообщал господин К., по терюханам, встретивших отряд с дубинами. « —писал К., – «дали залп из холостых ружей» Исправник, стал увещевать, чтобы они выдали своего Кузьку-бога, обнадеживая их прощением, но мордва не соглашалась… Тогда был дан залп из ружей, от которых мордва и разбежалась».