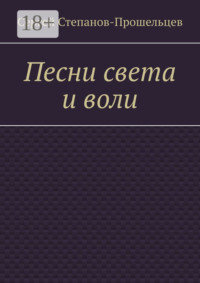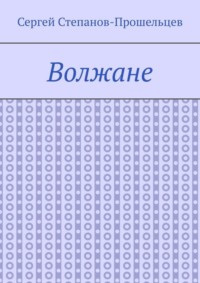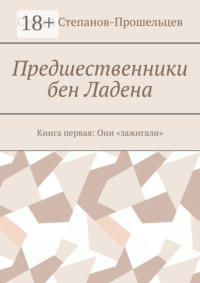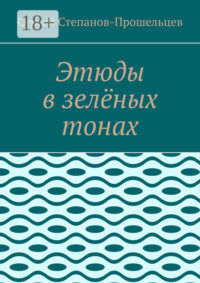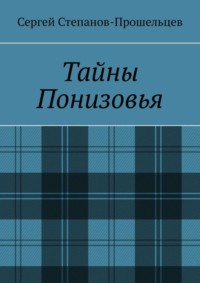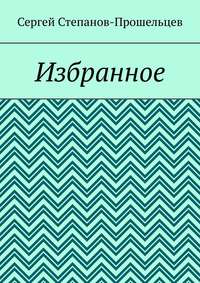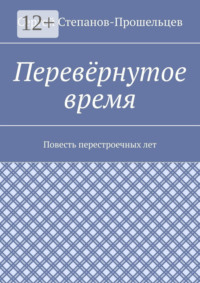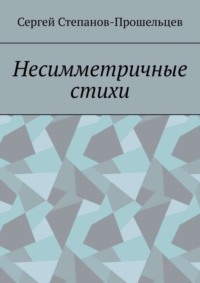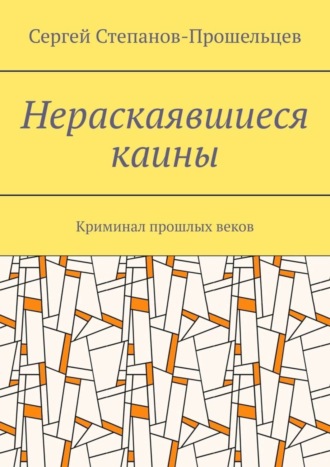
Полная версия
Нераскаявшиеся каины. Криминал прошлых веков
Очерк вызвал эффект взорвавшегося метеорита вроде Тунгусского. В библиотеках на «Отечественные записки» шла настоящая охота. Очерк Крестовского эмиссары чиновников, замешанных в афере, вырывали даже в присутствии библиотекарей. Но было поздно. Молва о нижегородских казнокрадах пошла гулять по всей России. И наказаний уже нельзя было избежать.
Финал
Список людей, причастных к соляной афере, был достаточно велик. Не только ревизоры – все нижегородцы требовали посадить в острог и братцев-хватцев, и купцов Федора Блинова, Александра Бугрова, и их приказчиков, и нижегородского полицмейстера Лаппо-Страженецкого, который брал взятки за свое молчание. Но ничего такого не случилось. Казнокрады, за исключением Терского, продолжали находиться на свободе и с улыбкой небожителей взирали на суету и тщету, которые творились вокруг. Только Вердеревский-младший, пока шло следствие, умер то ли с горя, то ли с перепоя.. Но это была, судя по всему, случайная жертва. Другие фигуранты дела о хищениях соли, наоборот, проявляли агрессию. Федор Блинов, например, приставал к губернатору с настоятельным требованием вспомнить поговорку, согласно которой, кто старое помянет, тому глаз вон. И предлагал в знак примирения принять его предложение – покрыть чудовищную растрату за счет поставки городу муки по баснословно низким ценам. Но Одинцов уже не мог согласиться – никто бы этого не понял.
Судебный процесс над казнокрадами прошел в мае 1869 года. Вердеревского и Терского приговорили к лишению прав состояния и ссылке в Нерчинск, полицеймейстера уволили со службы. Купцы Блинов, Игнатов, Буянов и их приказчики Невидин и Стрижов отделались несколькими днями ареста.
А потом на Новобазарной площади (сейчас площадь Горького) состоялась гражданская казнь Василия Вердеревского. Это был спектакль, на который собрался практически весь Нижний Новгород. У пожарной каланчи поставили столб с кольцами и обитый чёрным сукном помост. К нему подвезли на такой же траурной колеснице теперь уже бывшего дворянина Вердеревского в генеральской форме при шпаге и орденах. Палач в красной рубахе, сорвал с него ордена, переломил над головой шпагу, а руки привязал к кольцам. В этом положении Вердеревский оставался ровно 10 минут, после чего его переодели в арестантский халат и отправили в острог, а вскоре этапировали в Сибирь.
Но непотопляемый жулик снова сумел вывернуться. Каким-то непостижимым образом ссылку ему отменили и отправили в имение к дочери, которая проживала в Нижегородской губернии..
Ну а что касается Федора Блинова, то по выходу из кутузки он получил подарок от отца – пудовые чугунные галоши. И, как гласит легенда, носил их по часу каждый день – отца он не мог ослушаться…
«ПОДПОР БЕЗОПАСНОСТИ»
Первую полицмейстерскую контору в Нижнем Новгороде возглавил бывший офицер Иван Нормоцкий. И для преступников привольная жизнь закончилась.
Детище Петра I
Вообще-то полицию придумал Петр I, но «подпор безопасности» появился лишь 8 лет спустя после его смерти, и, надо сказать, наделялся более широкими полномочиями. Полиция регламентировала посещение горожанами церквей и зрелищ, расходы обывателей, выезды на лоно природы и семейные праздники, собрания в частных и общественных домах. Кроме того следила за ценами на товары, боролась с пожарами. «Проколы» в деятельности нового правоохранительного органа надлежало тщательно скрывать, «дабы публика доверенности к ним не лишалась». Тогда же были официально учреждены и тайные осведомители.
В 1742 году «фундаментальный подпор человеческой безопасности» в Нижнем Новгороде был доверен армейскому капитану Егору Метревелеву. Под его началом были 2 капрала, 4 унтер-офицера и 8 нижних полицейских чинов – «хожалых».
Метревелев начал с устройства на улицах рогаток и решеток. При них дежурили караульщики – как правило, инвалиды. Они были вооружены дубинами и трещётками. Им предписывалось «спешить на помощь каждому обывателю, подвергшемуся нападению злоумышленников».
Но решётки и рогатки вызвали аллергию у ямщиков. Они караульную службу нести отказались. А когда несколько бунтовщиков забрали в полицию, их товарищи пришли выручать своих. Они избили капрала, проломили череп утнер-офицеру и захватила в заложники квартирмейстера Баранщикова. Его держали двое суток закованного в цепи.
12 полицейских справиться с ямщиками не могли. И Метревелев обратился за помощью к командованию Нижегородского гарнизона. Только солдаты потушили вспыхнувший пожар.
Но тут Ямская слобода загорелась натурально.
Как боролись с «вулканусом»
Полиция занялась профилактикой. Летом топить печи запрещалось. Их опечатывали. Временные очаги разрешалось устраивать только вдалеке от домов – на огороде. Если кто-то осмеливался нарушить запрет, его наказывали батогами.
Городские власти постановили, чтобы в каждом доме было все необходимое для борьбы с огнем: запас воды, багры, топоры и крюки. Потом вышло новое распоряжение, согласно которому нижегородцы должны были регулярно чистить печные трубы. По иронии судьбы ровно через год после выхода в свет этого указа в Нижнем случился самый опустошительный пожар в его истории. Город выгорел почти полностью. Уцелело только несколько каменных строений.
Очень часто пожар охватывал не только жилые дома, но и храмы, остроги, трактиры, казенные учреждения. Не один раз горели гарнизонные кремлевские казармы, присутственные места, Успенская церковь, Происхожденский женский монастырь, который находился между Георгиевской башней кремля и одноименным храмом.
Просто полировка
Метревелев объявил войну хороводам, городкам и кулачным боям. Он нашел союзника в лице Синода, который тоже возбудил перед правительством ходатайство о запрещении скачек, народных плясок, кулачного боя и «других бесчинств». Однако правительство Синод не поддержало. – разъясняло оно, – «Подобные забавы, в свободные от работы праздничные дни… служат для народного полирования, а не для какого безобразия».
Реформы
Полицмейстерская контора много раз реформировалась. У полиции появились дополнительные обязанности. Она контролировала санитарную обстановку на мясных рынках, следила, чтобы в трактирах не играли в карты и кости. Были также созданы три команды «для сыску и искоренения воров и разбойников».
Город разделялся на две, а с 1861 года – на четыре полицейских части, по 7 кварталов в каждой. Во всех кварталах работали квартальные надзиратель и поручик. Были установлены 22 будки, где находились сторожа. Они несли круглосуточное дежурство. Заработали ярмарочная и речная полиции, а также конно-полицейская стража и пожарная часть. Каланча была деревянная. По тем временам она была самым высоким строением в городе – примерно с сегодняшнюю пятиэтажку. На ней всегда находился смотрящий. Если где-то замечался дым, звонили в колокол, на место возгорания выезжал обоз. Однажды в Канавине, которое было тогда селом, тревогу подняла… коза, которая запуталась в веревке караульного колокола. В пожарную часть зимой то и дело наведывались гимназисты – посмотреть, не вывешен ли флаг. Если он появлялся, значит, мороз зашкаливал за тридцать градусов, и в гимназию идти не надо.
Лаппоприкладство
В анналы истории вошло имя нижегородского полицмейстера Лаппо-Старжанецкого, про которого даже сложили поговорку: «Один брал одной рукой, другой – двумя, а третий лапой загребал».
Сохранился его портрет: здоровенный мужик с пудовыми кулаками. Но он был еще и крайне неуравновешенный. Чуть что не так – подзатыльник или зуботычина, а то и пинок.
Особенно злоупотреблял «лаппоприкладством» полицмейстер по отношению к своим подчиненным. И такое усердие проявил в этом деле, что половина блюстителей порядка ходила без зубов. И когда ожидался приезд в нижний наследника престола, будущего императора Александра I, вышла неувязка. Бравых и полнозубых полицейских в городе практически не осталось. Пришлось их брать напрокат в других городах.
Связан с Лаппо-Старженецким и другой анекдот. В целях экономии он распорядился уменьшить норму выдачи овса лошадям, обслуживающим пожарную команду. « – писал полицмейстер, – Жеребцы, лениво жуя овес, много корма просыпают на пол, а при уменьшении рациона будут жевать внимательнее»
Дело Насти Осокиной
В 1765 году сгорел дотла кабак, который в народе прозвали Облупой. Рядом с дымящимся пепелищем в каком-то трансе бродила 19-летняя дочь известного в Нижнем купца Настя Осокина.
Настю арестовали. Выяснилось, что у нее был роман с приказчиком Гаврилой. Но отец Насти постучался в её светелку в неурочный час. Приказчик нырнул под пуховую перину и там задохнулся.
Настя решила избавиться от трупа. Попросила помочь дворника Ивана. Но тот стал её шантажировать, вымогать деньги. И Настя, вконец запутавшаяся, подожгла кабак, когда там был Иван. Вместе с ним погибло еще семь человек.
Настю присудили к кнуту и каторге. Но так совпало, что на следующий день в Нижний приехала Екатерина II. И она проявила великодушие – помиловала несчастную, полубезумную узницу.
Кулага, Янька и Галаня
Разбойников в то время было много. В селе Арапове злодеи убили помещика Зиновьева, в селе Ленькове Макарьевского уезда – помещика Куроедова. Были ограблены вотчины князя Хованского и генерал-майора Шереметева. Лихие люди поджидали проезжающих купцов в урочище Смычка (нынешняя Мыза), около деревень Утечино, Грабиловка, Кудеяровка, в лесу у Кстова. Васильский уезд пугал урочищем Стары-Мары, Воровским долом у села Петровки.
Особенно прославились своими дерзкими грабежами крестьяне Константин Дудкин (Кулага), Янька (фамилия его неизвестна) и Галактион Григорьев (Галаня). Они держали в страхе практически всю Нижегородскую губернию. Кулага разбойничал пять лет, но его полиция изловила. Разбойника повесили. Яньке от имени некой вдовы послали бочку вина. Всю ватагу, набравшуюся до бровей, в ту же ночь и повязали. А вот с Галаней пришлось повозиться. В 1781 году поручик Мавринский докладывал начальству: Это был Галаня. «В одном из присурских лесов захватил шайку разбойников в то самое время, когда один из них рубил саблей связанного мещанина Алферьева, самого злодея поймал».
Но он обманул полицию. Заявил, что в урочище Шумцы построил избу. В ней он якобы оставил куль муки, там и находятся сейчас его товарищи. И Галаня вызвался указать это место. Как ему, закованному в кандалы, удалось совершить побег, до сих пор неизвестно. Но факт остается фактом.
С 1783 года «подвиги» его возобновляются. То он нападает на купеческие суда близ Городца, то на почту, то снова на струг, где берет товару на 155 рублей…
Разбойничья «карьера» Галани закончилась тихо и мирно. Он умер от простуды. Говорят, его похоронили в лодке, засыпав тело золотом и драгоценностями.
Но полиция не бездействовала. Только в 1799 году, и только в Нижнем Новгороде, полиция задержала 348 воров, 22 военных дезертиров и 150 бродяг.
Полицмейстеры
Как и среди других чиновников, среди нижегородских полицмейстеров попадались люди, горячо преданные своему делу, и откровенные хапуги. Ветеран Отечественной войны 1812 года Махотин, потерявший руку в боях с французами, скупал на Нижегородской ярмарке вино у кавказцев и изготовлял из него «шампанское», которым в принудительном порядке торговали на той же ярмарке. На вырученные деньги приобрел два дома в Нижнем и хутор в Марьиной роще. Когда Николай I повелел отыскать потомков Козьмы Минина, «нашел» их десятка два. Бумаги эти были возвращены Махотину с пометкой императора: «Дурак». У Минина не было потомков.
Откровенным взяточником был фон Зегенбуш. Без подарков в его кабинет входить запрещалось. Особое рвение Зегенбуш проявил в борьбе со скопцами. Одного из них, одетого в женский сарафан, выставили в Починках в базарный день у позорного столба. Местным жителям предписывалось плевать ему в лицо, но они, наоборот, жалели несчастного.
Но надо сказать, что подавляющее большинство полицейских начальников неукоснительно выполняли свои служебные обязанности. Образцовый порядок был в городе в дни проведения Всероссийской промышленно-торговой и художественной выставки в 1896 году, да и вообще – вплоть до 1905 года. А потом начались всякие социальные катавасии, которые привели к резкому росту преступности.
АНГЛИЙСКИЙ СЛЕД
Загадочное событие произошло в 1841 году в Арзамасе. Когда слуга Осип Романов, вошел в гостиничный нумер с ужином, он обнаружил распростертое на полу тело студента Ивана Кирилова. – говорилось в рапорте полицмейстера городничему. – «Вызванный содержателем гостиницы частный пристав нашел, что при покойном оказались только паспорт и подорожная и никаких более бумаг, Осмотром тела уездным лекарем и титулярным советником доподлинно выяснено, что смерть господина Кирилова не от чего иного произойти имела, как от внезапной остановки сердца, из чего можно усмотреть, что дело это есть нечастный случай, соединенный с воровством, кои обыкновенно в наших гостиницах случаются».
Однако после вскрытия трупа уездный лекарь пришел к иному мнению. «, – писал он в своем заключении, – . О том, что яд подсыпали англичане, естественно, ни лекарь, ни полицмейстер, как представляется сейчас, даже не подозревали. Господин Кирилов точно умер от остановки сердца, но исследование органов покойного оставляет в подозрении вероятие отравления малой толикой яда, однако ж весьма сильного»
А все началось задолго до этого, в 1823 году, когда офицер корпуса военных топографов Григорий Карелин начал систематические исследования Южного Урала и Казахстана. В 1840 году его отряд проник в Среднюю Азию.
Ученого интересовало всё: флора и фауна, месторождения драгоценных камней, золота и серебра. Был собран богатый научный материал, который носил секретный характер. Требовалось срочно оповестить о сделанных открытиях министра иностранных дел России Карла Нессельроде. И Карелин посылает в Петербург своего помощника Ивана Кирилова.
Для чего же понадобилось его убивать? Почему спустя четыре года коллекцию собранных минералов кто-то похитил, а дом Карелина вместе со всеми географическими картами и прочими бумагами сгорел, как спичка?
Дело в том, что Средняя Азия давно уже входила в сферу интересов англичан, присутствие там русской миссии было для них нежелательно. За Карелиным организовали слежку. И когда Кирилов отправился в Петербург, оттуда наперехват ему выехали четверо английских дипломатов, прекрасно владеющие русским языком. Они, по-видимому, и отравили посланца Карелина, забрав секретные бумаги. Ни для кого, кроме англичан, они не представляли интереса.
«СТАРИЧОК» В ЧЕМОДАНЕ
– Преступления на железнодорожном транспорте стали совершаться даже раньше, чем этот самый транспорт появился, ещё во время прокладки магистралей, когда средства, отпущенные на строительство, уплывали неизвестно куда. Потом широко распространились кражи в поездах…
Багаж с запашком
7 августа 1903 года в Харьков прибыл обычный товарняк. Но, выгружая багаж, станционные рабочие один за другим отказывались возвращаться в вагон. Там смердило так, что невозможно было дышать.
Полиция, прибывшая на место происшествия, констатировала, что запах исходит от большого чемодана. « – писал в своем рапорте вышестоящему начальству полицмейстер Харькова, – (76 килограммов, – С.С.-П.). Этот чемодан был обтянут коричневой парусиной, и, несмотря на то, что имел ремни, был обвязан еще и веревкой. Его вес составлял 4 пуда и 30 фунтов Длина чемодана была 73 сантиметра. Согласно квитанции №713 он был сдан в Нижнем Новгороде 5 августа (где тогда проходила ярмарка) для отправления в Харьков».
В чемодане находился труп.Убитому на вид было лет 50.
Таинственное исчезновение
За несколько дней до этого в полицию Нижнего Новгорода обратился хозяин одной из частных гостиниц Вишняков. Он заявил о таинственном исчезновении тверского предпринимателя Якова Матвеева. И составил словесный его портрет. Оказалось, что содержимое чемодана, обнаруженного в Харькове, скорее всего, и является останками Матвеева.
Но как и почему он был убит? На этот вопрос ответили нижегородские сыскари. Они выяснили, что Матвеев остановился в гостинце Вишнякова вместе со своим компаньоном Смирновым. , – писали сыскари, . Он нарисовался только утром и попросил Смирнова , сказал, что встретился с с которой и провел ночь. «Всегда трезвый и степенный – Матвеев в ночь на 5 августа ночевать в номера не пришел» «его опохмелить и дать капустный рассол» «красавицей-девицей»,
Нижегородская полиция выяснила, что случилось потом. Судя по показаниям свидетелей, опохмелившись, Матвеев снова отправился в публичный дом Васильевой, где проживала «красавица-девица». Но его уже поджидали сутенеры (их тогда называли «котами»). Они набросились на пожилого воздыхателя и задушили. Обшарив карманы Матвеева, «коты» нашли деньги, купили в магазине Заплатина большой холщовый чемодан, уложили в него труп и отвезли на вокзал, где и отправили груз в Тверь на несуществующий адрес. Но, увы, ни «котов», ни проституток сыщики не обнаружили. Они скрылись.
Следствие продолжается
Вдова Матвеева сообщила, что у тверского купца было с собой пять с половиной тысяч рублей, но часть этих денег он истратил на покупку товара, который уже доставлен в Тверь. Преступникам перепало не больше трех тысяч. Но в то время это была очень крупная сумма.
Начальник Нижегородского сыскного отделения Думаровский отправил в разные города, главным образом, в те, что ниже по Волге, телеграммы с приметами убийц. Интуиция его не подвела. В Царицыне задержали нижегородских проституток Елизавету Штукатурову и Любовь Куликову, в номере которых был убит Матвеев.
Отметим завидную оперативность: 25 августа 1903 года на пароходе «Лермонтов» обе проститутки были доставлены в Нижний. Их допросили прокурор окружного суда Золотарев и следователь по особо важным делам Некрасов. Но допрос мало что прояснил. И Штукатурова, и Куликова решительно отрицали свое участие в убийстве Матвеева.
Вот что писал по этому поводу «Нижегородский листок»: – «Любовь Куликов, оказалась владелицей бакалейной лавочки, а Елизавета Штукатурова работала акробаткой в базарном балагане… Однажды на ярмарке Куликовой встретился пожилой господин небольшого роста, кругленький, румяный, хотя и весь седой. «Мы с ним перемигнулись, свидетельствовала Куликова, и он пошёл за мной. Я повела его к себе в номер, где жила с подругой. По дороге гость купил в лавке бутылку водки и закуску… Утром он сказал, что пойдет устраивать свои дела, а затем снова придёт к нам. При этом он просил, чтобы мы никуда не уходили».
Куликова и Штукатурова добросовестно ждали своего нового и весьма состоятельного знакомца. Но тут пришли «коты» – Иван и Петр. Проститутки рассказали им о купчике, которого облапошить ничего не стоит. «Коты» заинтересовались. Когда вернулся «старичок», они напоили его «ершом» – водкой с пивом. Матвеев захмелел и, положив голову на колени Куликовой, крепко уснул.
События развивались стремительно. Петр с Иваном отправили девиц за водкой и закуской, а тем временем задушили Матвеева проволокой и упаковали его тело в чемодан.
– рассказывала Куликова, – — сообщала газета «Нижегородский листок». «Когда мы пришли в номер, „старичка“ уже не было. На вопрос, куда подевался дедушка, Иван ответил, что он ушел. Мы выпили по рюмке водки, и Иван с Петром стали собираться уходить. Тогда я обратила внимание на то, что чемодан, который принёс Иван, был совсем легкий, а теперь он поднимал его с трудом, и ему даже помогал Петр. Я шутя заметила: „Уж не моего ли дедушку вы спрятали в чемодане?“. Тогда Иван, сверкая глазами, подскочил ко мне и, схватив меня за горло, сказал, что если мы будем рассказывать такие глупости, то он задушит нас обеих. Мы замолчали, и они вышли, унеся с собой чемодан. На другое утро, когда я с подругой вышла на улицу, нам встретился Иван и, подавая 10 рублей, сказал, чтобы мы немедленно выезжали из Нижнего, в противном случае будем задушены. Испугавшись, мы уехали в тот же день». «Опрошенная отдельно подруга Куликовой, Елизавета Штукатурова, вполне подтвердила показания Куликовой»,
Что было дальше, выяснить мне не удалось. В Камышине, куда направлялся один из «котов», его не обнаружили. Проститутки, скорее всего, оказались за решёткой. А вот насчет сутенеров – тут есть большие сомнения.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ УБИЙЦЫ
Убийцу Михаила Лермонтова Николая Мартынова прокляли с того самого дня, как стало известно о его дуэли с поэтом. Что только ни писали о нём: бездарь, графоман, невежа, слепое орудие в руках судьбы, тех, кто ненавидел Михаила Лермонтова… Но так ли это? Я вовсе не пытаюсь оправдать Мартынова, но то, что случилось на горе Машук под Пятигорском, требует тщательного анализа. Его пока нет. Все то, что было рассказано об этой дуэли и о взаимоотношениях Лермонтова и Мартынова и в досоветское, и в советское время, и потом, к сожалению, недостоверно.
Папаша любил цыпочек
Он родился в богатой и знатной семье. На момент появления Николая Мартынова на свет его отцу, Соломону Михайловичу исполнилось 36 лет, он был отставным полковником. Старшая сестра отца, Дарья Михайловна постриглась в монахини и была игуменьей в Нижегородском Крестовоздвиженском монастыре. Всего в семье Соломона Михайловича и Елизаветы Михайловны было семеро детей – Николай, Михаил, Наталья, Екатерина, Дмитрий, Юлия и Елизавета.
Соломон Михайлович имел огромную усадьбу в Нижнем Новгороде с парком, выходившим на берег Волги. Эта улица получила название Мартыновской и пересекала нынешнюю Верхнюю Печерскую. Здесь впервые в городе были устроены так называемые «висячие сады Семирамиды», которые спускались террасами до второго этажа барского дома, а ниже, на склоне оврага, росли остриженные, как пудели, деревья сада «англицкого».
Мартынов-старший был человеком с большими причудами. Увлёкся, например, разведением цыплят при помощи инкубатора. Уже повзрослевшие, они бродили всюду, где вздумается, однако прислуга не смела их прогонять – куры для помещика были священными птицами, на которых он едва ли не молился.
Еще одним «пунктиком» стали для Соломона Михайловича крохотные собачки – левретки. Он полюбил их одновременно с «чудесами в перьях», как называли инкубаторских детенышей его дворовые. Но левретки никак не могли поладить со своими конкурентами-курами: душили их, ощипывали и кусали.
Надо сказать, что, несмотря на свои причуды, Мартынов-старший пользовался в городе немалым авторитетом. он не отличался скупостью, занимался благотворительностью. Накануне своей смерти в 1839 году даже передал свою усадьбу под городскую больницу. Она на протяжении более сотни лет называлась Мартыновской. Мать Николая Мартынова умерла в 1851 году.
Кто кому завидовал?
При такой любви к левреткам и желторотикам уделять внимание детям было некогда. Воспитанием Николеньки, как и его сестёр и братьев, занимались гувернеры, а потом он поступил в юнкерскую школу. Здесь и встретился со своей будущей жертвой. В этой школе учился, кстати, и старший брат Николая, Михаил.
С Николаем Лермонтов сблизился. Когда в ноябре 1832 года юный Мишель упал с лошади и сломал ногу, в госпиталь к нему наведывался не кто иной, как Николай Мартынов.
Тогда, в 1832 году, ничто не предвещало бурного варианта развития событий спустя почти десятилетие. Как вспоминали однокашники, оба Мартыновых и Лермонтов увлекались фехтованием на эспадронах, причем Николай Мартынов частенько побеждал.
Михаил Юрьевич, по описанию современников, был «небольшой, коренастый», «скорее, карлик». Впрочем, это не порождало комплекс неполноценности. Как вспоминала его родственница Вера Анненкова-Бухарина, «он и сам над собой смеялся, говоря, что природа наделила его сугубо армейской внешностью.
Кто кому завидовал – тут, между прочим, не всё ясно. Мартынов был хорош собой, имел успех у женщин, стремительно продвигался по служебной лестнице – в 1840 году он вышел в отставку в чине майора, Лермонтов же был поручиком, но приобрел всероссийскую славу литератора.
Они знали друг друга с детства
Как-то странно, но многочисленные биографы поэта не обратили внимания на то, что Лермонтов и Мартынов, скорее всего, знали друг друга с раннего детства. Еще одна усадьба Мартыновых находилась всего в 50 верстах от Тархан, рядом с Нижнеломовским монастырем, на территории нынешней Пензенской области. Здесь жили знакомые бабушки Лермонтова, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, которая воспитывала внука после смерти его матери – та умерла в 1818 году от сухотки спинного мозга. И бабушка не раз привозила сюда маленького Мишу, который был на год старше Николая Мартынова. На лето приезжали сюда и Мартыновы из Нижнего Новгорода. Трудно предположить, что помещики, жившие по соседству, не знали и не навещали друг друга. В чудом сохранившейся книге «Ложный Петр III, или Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачева», изданной в вольной типографии Федора Любия в 1809 году, я нашел такие строки: (то есть, помещиков, чьи усадьбы располагались поблизости, – С.С.-П.) «Потомки Киреевых, Мансыровых и Мартыновых связаны с Арсеньевыми дальними родственными узами».