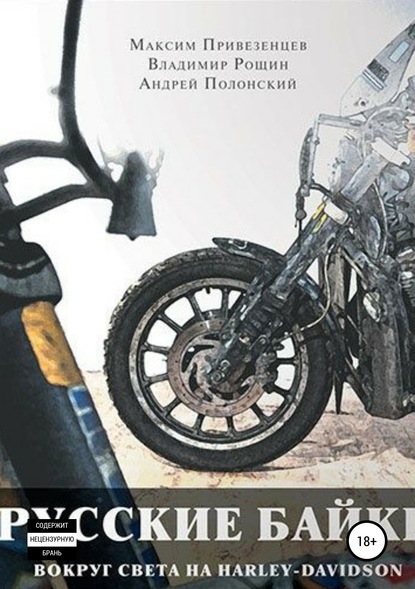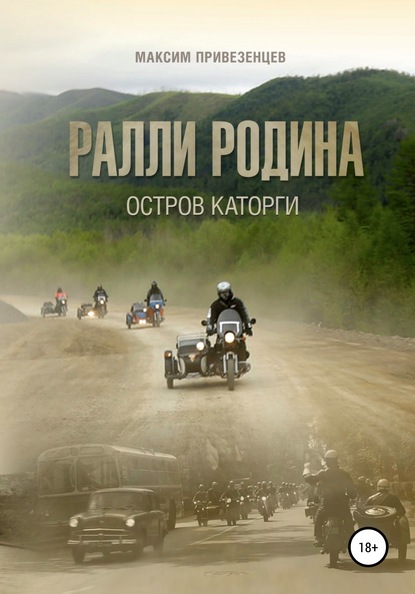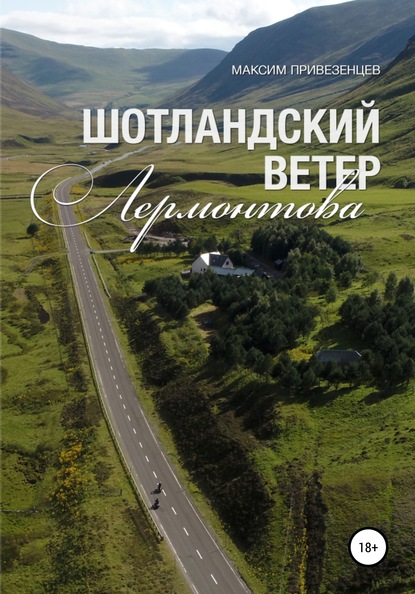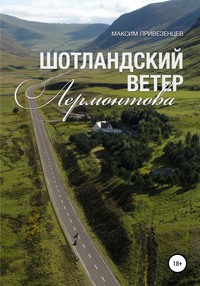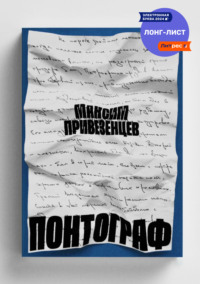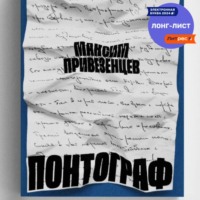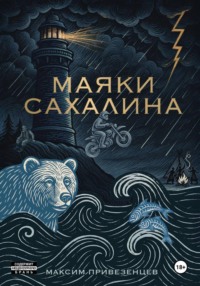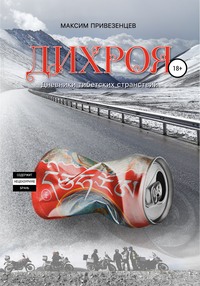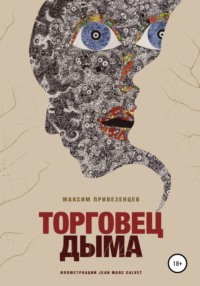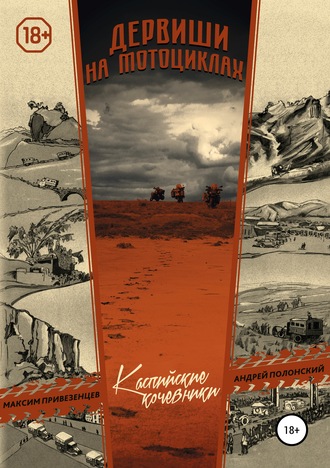 полная версия
полная версияДервиши на мотоциклах. Каспийские кочевники
Так думал я ранней весной в Москве. Маршрут оказался совсем другим, и вообще, все вышло иначе, чем я мог предполагать. И вот май, сижу здесь, в Тегеране. Мой путь наполовину пройден, и я побывал в Персии, куда, по понятным причинам, не могли заехать ни Семевский, ни мой новый владимирский товарищ тогда, в прошлом веке, в прошлом эоне.
V. Хитроумный Саид убеждает меня стать ученым
С туркменской визой все вышло точно так, как обещала Аржанцева. Выяснилось, что обычную они вообще не дают, только по специальному приглашению, или пожалуйста, извольте на могилку к родственникам. Приглашающих местное КГБ проверяет так, как Сталину и не снилось. Родственников в Туркмении у меня сроду не было. Так что тут никаких шансов. Единственно, на что я мог рассчитывать, это на транзитную визу.
История с транзиткой больше всего походила на старый советский анекдот про дефицит в олимпиаду 80-го года. Поначалу они просили иранскую визу. Иранцы дали ее безо всякого напряжения с ними вообще скоро безвизовый режим введут. Принес ее туркменам, туркмены удивились, но виду не подали. Стали требовать справки, одну за другой. Я доставал их с упорством, достойным лучшего применения. И, наконец, когда никаких справок придумать больше было невозможно, попросту отказали. Для выяснения причин надо было ждать письменного ответа из МИДа месяца три, не больше.
…В тот вечер у меня появился Саид. Мы презентовали наш новый кальянный табак «HOOKAH CIGARS ORIGINAL», и где-то ближе к концу славного вкушения табачного дыма в клуб вошел человек, казалось бы, совершенно из другой жизни. Сразу возникло впечатление, что он явился сюда, в московскую суету, сойдя с классической персидской миниатюры. Высокий, с обветренным в боях лицом воина, очень цепким, жестким и при этом веселым взглядом кажется, сейчас натянет лук и поразит любого врага, – он принес с собой дух Азии, верней, того, что я сам хотел увидеть в Азии.
– Ирина Аржанцева велела мне с вами познакомиться, – он безошибочно выделил меня и встал за правым плечом, у барной стойки.
Я что-то еще вещал несколько минут, Саид внимательно слушал. Как только я закончил, он тут же перешел к делу и на «ты»:
– Не дали визу туркмены? Вот сволочи. Теперь через Афганистан? Это хорошо, лучше через восток ехать, у меня на родине побываешь. Там красиво. Потом Балх увидишь, где Заратустра родился, Бамиан, где талибы Будду взорвали. Читал, наверное?
Я читал, знал и даже думал уже об Афганистане. И почему-то сразу доверился Саиду. Вообще-то, мне такая доверчивость не свойственна. Может быть, рекомендация Аржанцевой так подействовала, но тогда я вдруг подумал, что мало кто из людей на этой земле так же близок мне, как этот азиатский парень. И я решил: как скажет, так и сделаю.
Постепенно обозначилось множество забавных подробностей. Саид вырос на берегу Пянджа. Каждое утро он выходил к реке и смотрел на Афганистан. Когда он был маленьким, там шла война. Два его старших брата остались на другом берегу неизвестно, погибли или ушли к моджахедам. Но это вряд ли…
С Афганистаном у Саида связано полжизни, хотя он с четырнадцати лет в России. Во-первых, он не таджик, а ваханец, исмаилит, из очень почтенного, по местным меркам, рода. Прадед его по имени Джафар, кади и богослов, учился в Кабуле. В свое время он был знаменит на весь Памир тем, что знал язык птиц. С этим связана целая история.
В начале ХХ века подружился бадахшанский кади с одним орнитологом, а по совместительству доктором из России. Алексей Михайлович Дьяков приехал на Памир в экспедицию, а заодно и устанавливать Советскую власть. Лучшего специалиста по птицам, чем Джафар, ему было не найти. С Дьяковым они обошли пешком почти весь Афганистан, бывали в Нуристане и Герате, в Кандагаре и Нангархаре, дружили с богословами, поэтами и старейшинами пуштунских племен. И тут я понял, насколько мир тесен. Я знал историю Алексея Михайловича Дьякова. Тот же Игорь когда-то рассказывал мне об этом человеке. Дьяков был лагерным другом его деда, отмотавшего двадцать лет за «шпионаж в пользу Польши». Уже в 50-х годах он стал знаменитым востоковедом, крупнейшим советским специалистом по Памиру и Афганистану. Жил в Челюскинской, под Москвой. Вся веранда его огромного дачного дома была заставлена клетками с птицами. Утром он выходил и с ними здоровался. Птицы отвечали ему на десятки ладов.
В детстве Игорь пару раз ходил с ним в лес. Это могло свести с ума. Дьяков что-то насвистывал и сразу несколько птичек садились к нему на руку. Дальше сказывалась сказка. Он им говорил, они ему отвечали, каждая по очереди. Игорь был совсем мальчишкой, и ему казалось, что в эту минуту он тоже начинает понимать птичий язык. Птицы ничего не боялись, щебетали, общались, а потом раз – и одновременно улетали.
Дьяков так и запомнился ему – большой лысый старик в старомодном пенсне, четыре птицы сидят у него на руке. Еще две летают кругами над ним… Удивительно крепкая порода была у этих людей, но время и над ними имело власть. Все предгорья Гималаев человек исходил пешком, плюс десять лет лагеря. С птицами говорил, а с дочерью общего языка найти не мог. Когда ему было далеко за 70, он погиб в автомобильной катастрофе. Говорят, где-то остались его воспоминания. Издать их в советское время было невозможно. Дочь пропила рукопись, продала за гроши какому-то коллекционеру.
На самом деле, я не очень люблю такую ситуацию, когда параллельные линии сходятся. Саид оказался правнуком друга Игорева деда. К тому же еще его отец – чемпион Таджикистана по шахматам. Узнав об этом, на мгновенье я почувствовал себя фигурой в чьей-то большой шахматной партии. Эта мысль мелькнула у меня в голове, но я тут же ее отогнал чушь какая-то, дурацкая мистика. Пока мы в Москве, в мусульманский фатум не верим.
К тому же и Саид отвлек, очень интересно рассказывал – то о себе, то об Афганистане.
– На Пяндже лучшие в мире яблоки, а в Афганистане – пыль. Река – граница миров. Только там понимаешь, чем был Союз со всей его пофигистикой для Востока. Чтоб они сейчас ни говорили о колонизаторах. Это нам кажется, что Таджикистан, Бадахшан – бедные, работы нет, денег нет. Для афганцев Хорог, как для таджиков Москва, а для нас – Нью-Йорк. Сам Афганистан очень разный. И по природе, и по местным нравам. Мазари-Шериф – древний город, голубая мечеть, белые голуби, и там безопасно. Зато очень жарко. В Кабуле в смысле погоды рай, но два миллиона жителей, грязь, пыль. Но Бабур, основатель империи Великих Моголов и автор прекрасной книги «Бабурнамэ», завещал себя похоронить именно здесь. Больше всего на земле любил это место, а дошел из Центральной Азии до Индии.
«Натовцев» в Афганистане ненавидят. К русским, то есть к шурави, относятся либо с явной приязнью, либо со сдержанным уважением. «Вы, – говорят, – воевали с нами, как мужчины».
Но это ничего не значит. Все, что угодно, может случиться неожиданно и быстро. Власти совершенно не контролируют провинцию. Ночью они не контролируют и дороги. Днем повсюду блокпосты. Проехать можно, но с сопровождением. Сопровождение Саид найдет. У его родственников много друзей. Среди них даже есть старые солдаты Ахмед Шаха Масуда, которого прозвали панджшерским львом. Но южнее лучше отыскать кого-то из пуштунов. Никогда не говори, что ты «сафар» – путешественник, говори, что ты «махмун» – гость. Подумают: чей гость? – и будут осторожней. К тому же традиции гостеприимства, особенно у пуштунов, священны. Правда, почти сорокалетняя война подточила и их. Не знаешь, наверное? Короля свергли в 1973 году. С тех пор страна воюет. Воевали между собой, воевали с вами, теперь воюют с «натовцами» и опять между собой. Из 28 провинций только в 10 относительный мир. Зато дороги в Афганистане бывают хорошие. Бывают и очень плохие, правда автомобилей не так много, и там где асфальт, там асфальт. Главная асфальтовая дорога АН76 идет как бы кругом, от Мазари-Шерифа на Герат. Можно в Иран проехать и через Кабул, по АН77. Но Герата не избежать. Герат контролирует Исмаил-хан, или как его еще называют, Туран Исмаил. Он старый уже человек, дрался и с вами, и с Талибаном, и с нынешним Кабулом. Мой единоверец, исмаилит. Ближе к иранской границе вообще живут шииты и исмаилиты. Так что надежного человека тебе мы найдем. Афганистан – опасное место, но очень интересное. Совсем другая планета, тебе понравится, – и с этими словами Саид испытующе посмотрел на меня.
– Понимаешь, – надо было как-то отвечать на этот длинный и страстный монолог, – я боюсь, что Афган – совсем другая история. Я еду в Азию, потому что меня влечет пустыня, Каспий, древняя персидская культура, оазисы. Тимур, наконец, мавзолей которого меня потряс, когда я летал в Самарканд. А тут свои темы, свои герои и, даже если брать седую древность, больше индийский мир, память о буддизме, ну и так далее. И еще, конечно, война, которой я вообще не хочу касаться. Не хочу никакой политики.
Саид меня понял.
– Значит, ты оставил Афган на самый крайний случай. Хорошо, тогда я знаю, как убедить туркмен тебя пропустить. Им нужна какая-то важная официальная бумага про науку. В Азии с древности очень уважают науку, иногда не меньше, чем армию. Ты должен стать ученым… Главное, что с афганской визой проблем нет. Ее ты всегда сможешь получить в Хороге за один день и сто долларов…
…Про ученого был блестящий совет. Азиаты со времен Улугбека уважают науку и любое знание. Даже во время Гражданской войны, если в плен к басмачам попадал человек, называвший себя ученым или учителем, они его никогда не мучили, убивали сразу. А иногда и отпускали на все четыре стороны.
Я придумал, как стать ученым, и вступил в Российское географическое общество, чтоб получить туркменскую визу. Что ж, это еще больше связало меня и с Семевским, и с Гумилевым, имевшим к этому обществу самое прямое отношение.
…Когда я принес в туркменское посольство большую бумагу с печатью и тремя подписями, где было черным по белому начертано, что такой-то такой-то просит разрешения пропустить через территорию гордого и в высшей степени нейтрального Туркменистана великую географическую экспедицию на мотоциклах, равной которой за последние пятьдесят лет не было, посольские просто выпали в осадок. Даже у тамошних гэбэшников, видимо, кончились аргументы.
Мы дадим вам транзит, – важно сказали мне и одарили улыбкой. – Вам поставят визу на границе с Узбекистаном, когда вы туда прибудете.
Это будет 30 апреля, – отвечал я неуверенно.
Что ж, 30-го, так 30-го, – успокоил посольский чин. – В принципе, точность не обязательна. У вас есть несколько дней в ту и в другую сторону.
…Нельзя сказать, чтобы я целиком и полностью поверил его обещаниям. Но, как говорил незабвенный римский писатель Арнобий, «из двух неочевидностей ту, которая дает нам надежду, всегда следует предпочитать той, которая не дает нам ее».
12 апреля мой мотоцикл отправился в Астрахань, где его встретили и обогрели друзья из мотоклуба «Mad Heads MC» (езда по просторам Родины в логику каспийского путешествия никак не вписывалась). 22-го туда отправился и я. Маршрут был определен. Афганистан был оставлен на крайний случай. Но в целом я знал, что я туда не поеду.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ,
полная неожиданностей
I. Низкий старт в облаках
Автопробег Семевского был тщательно подготовленным мероприятием, естественно вписанным в большую картину эпохи. Его организаторы и участники хорошо знали, что хотят доказать и самим себе, и окружающему миру. Эту пафосную эйфорию сейчас даже трудно себе представить. Радио, газеты, митинги, громогласные лозунги и призывы давали необходимую энергию, на которой работала советская пропагандистская машина. Они и подпитывали ее, и сами от нее же подзаряжались.
Я же ехал, ничего заранее для себя не решив и не стремясь доказать. Никаких целей, кроме самой дороги. Мне хотелось открыть для себя пустыню и Азию, увидеть другие земли и другое небо. Голос истории и голос пространства были обращены ко мне, и ответ мог быть тоже только мой, частный и отдельный, отчужденный от большой истории разноголосицей информационных потоков. Так что я занимался своим личным делом, своей судьбой, вплетенной, разумеется, в большую историю, но куда более хитроумным и причудливым образом, точно уж не по центру, а обходными стежками.
Конечно, мы сделали в Фейсбуке страничку «Ралли Каспий», но Фейсбук – это Фейсбук: от силы тысяча-другая читателей, по преимуществу таких же путешественников. Плюс друзья друзей, родственники родственников, ну и так далее. После кругосветки и «Ралли Родина» люди любопытствовали, думали, что еще может прийти этому безумцу в голову, но не более того.
Еще в начале года я созвонился с Василием, оператором и путешественником, который стал моим попутчиком, начиная с кругосветного путешествия, делал монтаж материалов, а затем сохранял – хочется сказать «на пленке», но на самом-то деле в «цифре» – все наши километры по просторам России в «Ралли Родина».
Вася был идеально подготовлен для путешествия в команде: он умел сохранить свое личное пространство и уважал личное пространство своих спутников; как оператор телеканала «Моя планета» был в каждом захолустье этого мира, не говоря уже о туристических тропах, к тому же прекрасно управлял мотоциклом. Поскольку техника по нашей давней договоренности была с меня, я предложил ему на выбор Harley-Davidson Street Glide и BMW R1200GS Adventure. Вася, не раздумывая, выбрал «гуся».
Я был рад, поскольку понимал, что в дороге у GS будет огромная фора по сравнению с моим «Иванычем», и Вася сможет вдумчиво отснять весь материал для будущего кино.
В марте к нам решил присоединиться и еще один мой давний товарищ по московской байкерской тусовке – Макс Любер. Любер был первым моим мотопопутчиком. Много лет назад он согласился взять меня в первое дальнее путешествие в Финляндию, так что за мной существовал формальный должок. Помимо дружеского алаверды, я рад был просьбе Макса, поскольку он обладал рядом незаменимых качеств. Его мотоопыту мог позавидовать любой. Он объехал Россию, Европу, США и Центральную Америку. Сам собирал «тройки», так что был еще и механиком.
Присутствовал только один маленький минус – по отношению ко всем формальным государственным процедурам, документам и другим, не относящимся непосредственно к дороге бюрократическим заморочкам, Макс всегда демонстрировал просто космическую расслабленность. Поскольку подготовку я брал на себя, в этом путешествии его «шлангизм» не должен был оказаться серьезной помехой. Но водилась за Максом еще одна особенность: он был сглазлив, как что ляпнет, так обязательно все наоборот получится.
Но Макс обещал держать язык за зубами и внимательно относиться к произнесенным словам. Правда, до конца сдержаться у него не вышло.
Любер тоже ехал на GS. Эти мотоциклы специально созданы для дальних путешествий и сложных дорог. Мой же «Иваныч» – чистый «Харлей», пусть и прошедший огонь, воду и медные трубы, Африку, Латинскую Америку, Монголию и Сибирь. Как ни крути, это совершенно разные машины, не то чтоб конь и трепетная лань, но где-то около того.
Существовали у нас и технические трудности другого плана. Перед самым стартом выяснилось, что у Любера нет «корнета» на байк специальной бумажки, сильно облегчающей пересечение всех и всяческих границ. Уже в дороге выяснилось, что он и не мог получить «корнет» на своего «гуся», поскольку по документам то был мотороллер!!! Так и катил парень на мотороллере…
У нас же с Васей «корнеты» были в порядке, у меня вообще всегда документы в порядке, но ехали-то мы втроем. Думаю, раздолбайство и пофигизм – ценные качества, они помогают с радостью принимать приключения и переживать трудности. Когда ты все, как кажется, предусмотрел, а дело пошло шиворот-навыворот, бывает особенно обидно. Тут и начинается настоящая работа над собой.
На этот раз готовность к работе над собой оказалась едва ли не самым ценным качеством, необходимым путнику. Степь, пустыня, Азия, как она есть, – неудачные декорации для заранее отработанного сценария. Судьба, знаменитый исламский фатум имеют власть над каждым, кто только вступит на эти земли. И все получается не так, как было задумано. Где-то я об этом читал. Несмотря на весь рационализм эпохи, такая же мысль проскальзывала и у Семевского в «Дневниках». Я много думал об этом.
Когда я поднимался по трапу «Ту-204», чтобы лететь из Москвы в Астрахань, никто не мог даже догадываться, насколько эта тема окажется актуальной лично для меня.
II. Ворота в Азию, вобла, Гурджиев
«Ту-204» страдал, дребезжал и покряхтывал, как ветеран-бегун, решивший проверить себя на дистанции в десять тысяч метров. Чтобы не думать, а долетим ли, я решил занять себя чтением. Единственной припасенной на этот случай книгой были путевые дневники Гурджиева. В студенческие годы я увлекался Георгием Иванычем, штудировал сочинения про танцы, а потом уже прочитал Пятигорского, «Философию одного переулка», где главный наш мистик представлен во всей красе. А тут еще по весне посмотрел достаточно неожиданный документальный фильм про Фонтебло, Успенского и всю компанию. В общем, Гурджиев со всеми его рассказами про горных старцев, забытые истины, Луну и Солнце, памирцев и езидов показался мне еще одной приправой к азиатским дорогам, и я скачал эту достаточно пухлую, если мерить в бумажном выражении, книжку себе на Букмейт. Лучше все-таки, чем кино смотреть, если вдруг будет пауза и захочется побыть одному. По крайней мере, в самолете Гурджиев шел отлично, и о том, что Ту может где-нибудь рассыпаться в небе над Волгой, я не вспомнил ни разу.
Нас встречали Дима и Серега, ребята из «Mad Heads MC», организаторы байк-фестиваля «Mad Day» и владельцы «Harley Bar». У них в гараже дожидались мой «Иваныч» и «гуси» Васи и Любера.
В Астрахани было как-то не жарко, почти ноль. Такой погоды в конце апреля местные старожилы не помнили, впрочем, холодная весна – начало марта вместо конца апреля – стояла по всей Европе и дошла до самых границ континента. В итоге к старому татарскому Хаджи-Тархану, который когда-то осаждал и сжег Тимур, мы не поехали, но Хлебникова я все же вспомнил:
«Где Волга прянула стрелою
На хохот моря молодого,
Гора Богдо своей чертою
Темнеет взору рыболова.
Слово песни кочевое
Слуху путника расскажет:
Был уронен холм живой,
Уронил его святой, –
Холм, один пронзивший пажить!
А имя, что носит святой,
Давно уже краем забыто.
Высокий и синий, боками крутой,
Приют соколиного мыта!»
Этот как раз «высокий и синий» холм Богдо, в названии которого слышится «богдыхан» и что-то уж совсем восточное, местные безо всякого почтения называют Жареный, а еще чаще Жареный Бугор. Он расположен в 12 км по течению выше современной Астрахани, на правом берегу реки. Первым город Хаджи-Тархан упомянул арабский путешественник Ибн Баттута в 1333 году, приезжавший к низовьям Волги в свите хана Узбека:
«Тархан значит у татар место, свободное от податей… Город этот был назван в знак памяти его основателя – поселившегося здесь одного хаджи, паломника и благочестивого человека. Султан освободил его землю от пошлины, и она стала притягивать людей».
Времена, правда, стояли в ХIV веке совсем не мирные. Не прошло и семидесяти лет, как город оказался почти стерт с лица земли. Зимой в низовья Волги пришли воины Тимура. Жители соорудили было стены из толстых кусков льда и готовы были сопротивляться, но их начальники, как часто бывает, порешили иначе. Хаджи-Тархан был взят без боя и отдан на разграбление. Понятно, что, когда Тамерлан ушел, тут было одно пепелище, по которому бродили чудом выжившие и не угнанные в рабство жители. Старики, которые никому были не нужны.
На восстановление ушло несколько десятилетий. Венецианский посол Амброджо Контарини, который задержался в русской истории оттого, что никак не мог одолеть кубка с хлебным вином, предназначенного каждому гостю у Ивана Третьего, и тем самым не на шутку рассердивший московского царя, свидетельствовал: «Домов там мало, и они глинобитные, город защищен низкой каменной стеной. Но видно, что совсем недавно в нем еще были хорошие здания».
Немного написал об Астрахани Контарини, направленный с посольством хозяйкой морей Венецианской республикой к хозяевам степей, ханам Золотой Орды. Оно и не мудрено. После хромого Тимура Хаджи-Тархан прозябал в полной безвестности. Однако уже к началу XVI столетия не осталось и следов от былого разорения. Цитрахан (отсюда – Астрахань) стал столицей одного из ханств, возникших на руинах золотоордынского могущества, на земли ее заглядывалась и Турция, и Крым. Но дело разрешилось довольно просто. К 1630-м годам в городе появилась «московская партия», потом пришли отряды Ивана Грозного, и все, что было дальше, известно из школьных учебников истории…
…Нынешнюю Астрахань называют Южной Венецией, форпостом России, каспийской столицей – да какие только не подбирают сравнения в духе «крыжовник – северный виноград». В любом случае, это очаровательный город. Он встал на большой воде, на границе степей и пустынь дышит рекой и рыбой, степью и домашним провинциальным уютом, Россией и Азией одновременно. Здесь хочется гулять и гулять по уютным тенистым улочкам, пройтись сквозь распахнутый всем ветрам кремль, добраться до дома, где сходил с ума молодой Хлебников, выйти к одной из бесчисленных пристаней на рукавах Волги, а может быть, как предлагал один местный, не слишком трезвый байкер, взять катер и исследовать бесчисленные острова и протоки. Так почти каждое место, куда ты приезжаешь на несколько часов, манит задержаться еще на сутки, на месяц, на год, а то и на всю жизнь.
…Но маршрут был расписан по дням, наутро объявлен старт, и надо было как-то внутренне собраться и подготовиться или – попросту – отдохнуть и оттянуться. До прилета в Астрахань у меня был очень напряженный график, я летал во Владивосток, потом вел какие-то переговоры в Москве, – необходимо было переключение, полная смена плана.
И мы отправились к ребятам в «Harley bar», есть воблу. Вобла и Астрахань идеально сопряжены друг с другом.
У входа в бар Макс Любер сказал:
– Вот, ворота в нашу Азию.
– По-моему, просто дверь в кабак, – ответил ему Вася.
И мы рассмеялись. Каждый шаг по этой земле можно трактовать совершенно по-разному.
Жареная вобла, кстати, оказалась куда вкусней более привычной для нас, вяленой. И это тоже непреложный факт повседневной астраханской жизни.
…В гостинице перед сном я решил почитать. Так и заснул с планшетом в руках, думая про какие-то странствия по долинам Алтая и Гималаев. А ночью мне приснился Гурджиев, собственной персоной. Он был точно таким же, как в фильме – уже достаточно пожилой кавказский человек, немного похожий на Сталина. Не зря, говорят, они дружили в семинарии.
Я только выкатил из гаража мотоцикл, а тут он подходит:
– Здравствуй, Максим!
Самое интересное, я ничуть не удивился.
– Доброе утро, – говорю, – Георгий Иванович.
– Можно я мотоцикл твой посмотрю? – спрашивает.
– Конечно.
– Как ты к дороге подготовился? – интересуется.
И тут я сразу не нашелся, что ответить. Вопрос этот был в самую точку. Именно с технической точки зрения я как раз не очень хорошо подготовился к дороге. Забрал «Иваныча» у механика и сразу отправил его попутным транспортом в Астрахань вместе с двумя BMW ребят. То есть не покатался хотя бы по городу, не вкатился в сезон.
Подумал и отвечаю:
Даже не знаю, как сказать. Вроде готов.
А Гурджиев внимательно так рассмотрел седло, сумки, потрогал защитные дуги, руль, а потом говорит:
Ну, конь как конь. Коню в первую очередь в зубы надо смотреть.
Я удивился.
Зубы, – пояснил Георгий Иванович, – чтоб понять, молодой ли конь? У тебя не очень молодой, но тебя знает, любит. Сам подумай. На восток с тобой пошел. А мог бы в конюшне остаться. И что бы с тобой было?
Риторического этого вопроса я до конца не понял, но во сне некогда было переспрашивать.
Картинку всегда целиком имеет смысл видеть, – добавил Гурджиев наставительно и посмотрел на меня с нехорошим таким кавказским прищуром.
Мне даже как-то не по себе стало, но тут Георгий Иваныч пропал. Как в кино смена кадра. И дальше уже безо всякой логики понеслись совсем иные картинки. Я увидел, что мчусь по абсолютно ровной и пустой черной высушенной земле. На чем еду, не только не помню, но и не понимаю, не на мотоцикле и явно не на коне, но передвигаюсь быстро, земля подо мной летит. Неожиданно появляются два всадник: один черный, другой – белый, почти сияющий. Присматриваюсь – птицы. Огромные птицы на конях. Я их обгоняю и оглядываюсь. Одна, черная с узко посаженными глазами и острым изогнутым клювом, другая, белая – с человеческим лицом.