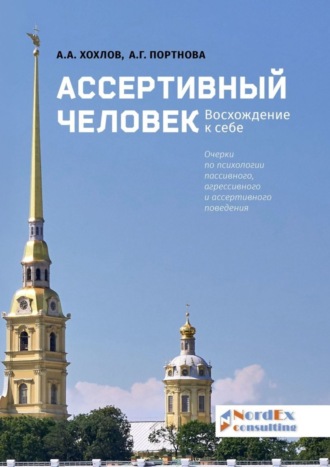
Полная версия
Ассертивный человек. Восхождение к себе. Очерки по психологии пассивного, агрессивного и ассертивного поведения
В итоге, исходя из сказанного, можно сформулировать важный ассертивный принцип «баланса ответственности». Ответственность за некоторое событие может нести только тот субъект, который имеет доступ к ресурсу управления этим событием, и в объёме, ограниченном этим ресурсом, сохраняя за собой право не беспокоиться по поводу того, что для некоторых событий доступ к ресурсу у субъекта отсутствует и эти события от него не зависят. Само право мы рассмотрим позже.
Ещё один защитный механизм по З. Фрейду заключается в том, что, если человек не может, не способен достичь намеченного (и, таким образом, ему угрожают снижение самооценки и потеря самоуважения), он, непроизвольно защищаясь, внушает себе, что его первоначальное устремление было ошибочным и нет в нём никакого резона. И он отступает. Таков мотив басни Эзопа и И. Крылова «Лиса и виноград». Там лиса, как известно, не может полакомиться виноградом, не достаёт до него, и отказывается от этой затеи, «мотивируя» тем, что он ещё зелёный и кислый. Она , спрашивая: «А так ли это важно?» Это замечательный механизм автоматической коррекции нашего уровня притязаний. Вполне, кстати, ассертивный, если к этой ситуации добавить ещё анализ причин такой неудачи (ошибки) и подумать над вариантами, какими ещё способами можно достичь желаемого «винограда». Или чем можно полноценно заменить «виноград». девальвирует ценность желаемого результата
При этом, разумеется, ошибка должна рассматриваться не как негатив, а как промежуточный результат достижения будущего успеха. Об этом подробнее мы скажем дальше. Не снижая своей самооценки, «ассертивная лиса» создаст банк подходящих вариантов: использовать палку, подождать более удобного случая, обратиться к кому-то за помощью, например к жирафу, найти, наконец, достойную винограду замену и т. п. Если такой анализ не провести, появится риск наступить в другой раз на те же грабли и не расширить, не обогатить свой индивидуальный опыт обучения на своих же ошибках. А это главное.
Существуют по крайней мере ещё два достойных здесь нашего внимания механизма, защищающих нашу самооценку и щадящих наше самоотношение и самолюбие. Это и . Они похожи. вытеснение забывание
Мы склонны или вовсе из памяти информацию, компрометирующую нас, направленную, как и в предыдущих случаях, на подрыв нашего авторитета и уважения в собственных глазах. Что это за компромат? Это несоответствие между тем, как нам следовало бы поступить с точки зрения моральных или профессиональных норм либо здравого смысла, и тем, как мы реально поступили (или поступаем). Так называемый «когнитивный диссонанс», или ролевое несоответствие, как увидим дальше. И в этих случаях ассертивность будет заключаться в специальном контроле и анализе того, что чему мешает. Не «прятать голову в песок», а открыто (себе и другим) и честно признать свою ошибку, слабость характера или позиции. Например, понимая вред курения, человек мучается тем, что не может бросить курить. Слабоволие. Для того чтобы не разочаровываться в себе, он «нечаянно» и вытесняет эти мысли из своего сознания, «забывает» об этом. Когнитивный диссонанс в этом случае может также более активно преодолеваться в процесс девальвации вреда и ущерба курения для личного здоровья: «Вот мой дед всю жизнь курил, а прожил девяносто пять лет…» забывать вытеснять
Аналогичным образом работают и другие защитные механизмы. Такие, как , суть которой в идентификации личности с некоторой социально значимой группой: нацией, народом, религией, профессиональной группой, семейными узами, родством. Гордость этим повышает свою значимость и самооценку. С таким же чувством, но незаслуженно человек может гордиться принадлежащими ему материальными ценностями (дорогой иномаркой, богатым особняком в престижном месте, большим капиталом и т. п.), даже в том случае, когда к его личным заслугам и достижениям это никак не относится. Есть такой анекдот. Жена – мужу-генералу: «А ты думал когда-нибудь, что будешь спать с генеральшей?» Такая гордость (при отсутствии реальных личных достижений) есть в действительности гордыня, и она обязательно проявится в непомерном хвастовстве пассивного и агрессивного типов, которые легко «примазываются» к чужой славе, чужим заслугам и к чужому капиталу. идентификация
Ассертивный же человек, гордясь своей принадлежностью к чему-либо (или к кому-либо), будет озабочен вопросом: «Что лично я привнёс в это? В чём состоит моя личная заслуга, мой личный вклад?» Ассертивный ребёнок или подросток не будет хвастать заслугами, положением или богатством своих родителей. Но это должно стать предметом специального педагогического внимания и соответствующих усилий воспитателей и педагогов. Это реальная основа скромности ассертивного человека.
Вывод, который вытекает из нашего анализа, следующий. Описанные выше механизмы фрейдовской защиты, «спасая личность» от разочарования в себе, вполне устраивают агрессивного и пассивного человека. Но с точки зрения социальных, моральных или профессиональных норм поведения никак не могут устроить ассертивную личность, для которой цель не оправдывает средства, а нравственные и профессиональные нормы – не пустой звук. На явном или бессознательном самообмане – а он присущ всем без исключения фрейдовским механизмам защиты – принципиально невозможно спасти своё лицо и повысить самоуважение. Спрятать лицо, даже от самого себя, можно, изменить – нет. Только подлинно открытое и честное признание (себе и другим) своих ошибок может лечь в основу ассертивности и духовного роста личности.
Непризнание же своих ошибок, промахов, их маскировка или вытеснение в подсознание и соответствующее отсутствие анализа их причин – верный путь к тому, что они в скором времени повторятся. И это тупик.
Таким образом, сравнивая фрейдовские (Ф) и ассертивные (А) механизмы защиты личности, отметим их особенности:
• Первые строятся на автоматических быстрых природных инстинктах самосохранения врождённого характера, вторые – на социально усвоенных ценностях, нормах социального поведения, традициях, морали и этике.
• Большинство Ф-механизмов защиты основаны на вытеснении в подсознание любой дискредитирующей личность информации. Абсолютно все А-механизмы строятся на противоположном принципе – вытеснения подсознания этой информации, то есть осознание всего того, что дискредитирует личность: промахи, ошибки, манипуляции и т. п., – с дальнейшим обязательным анализом причин полученного результата, его социально-психологической экологии. из
• Таким образом, движение информации о личности в сравниваемых защитных механизмах происходит в двух психологически противоположных направлениях: вытеснении в подсознание «дискредитирующей» информации о себе и обратном – осознании случившегося как естественной и вполне допустимой ошибки, требующей открытого сознанию ассертивного анализа.
• Будучи дополненными ассертивным анализом (см. выше анализ ситуации «лиса и виноград»), фрейдовские защитные процессы могут выходить из категории пассивно-агрессивного поведения и приобретать «человеческое лицо».
1.5. Интеллигентность, социальная зрелость и ассертивность
Каковы синонимы понятия ассертивности (В. Каппони и Т. Новак), самоактуализированной личности (А. Маслоу), человека с биофильной организацией психики и поведения (Э. Фромм) в современном русском языке и отечественной философии и культурологии?
О социальной зрелости (жизненном опыте, мудрости и т. п.) уже было сказано. Мы её понимаем, как:
– интеллектуальную способность адекватной оценки происходящих социальных событий, их социальной и профессиональной диагностики, что позволяет личности ориентироваться в окружающем мире и самой себе. Это социальный интеллект, основанный на большом опыте общения, познания и созидания;
– способность на этой основе моделировать (предвидеть, предсказывать, предопределять и т. п.) ситуацию в развитии. Иными словами, давать более или менее точный социальный прогноз. Точность такого прогноза трудно переоценить, так как он напрямую определяет объём свободы нашей активности, а стало быть – нашего участия в собственной судьбе в настоящее время и в ближайшем будущем;
– способность на основании предыдущих действий готовить сценарии ответных действий, в том числе сценарий самого неблагоприятного развития событий;
– в значительной мере социальный опыт есть закономерный результат систематической работы личности над ошибками (своими и чужими).
Противоположным «социальному интеллекту» явлением и понятием является «инфантильность», которую иногда путают с «детскостью», с непосредственным, живым, образным и полноценным впечатлением от всего происходящего и свойственным каждому ребёнку и немногим взрослым.
Об интеллигентности
Согласно известному определению, интеллигент – это человек, принадлежащий к интеллигенции. Сама же интеллигенция в словаре русского языка, трактуется, как «работники умственного труда, обладающие образованием и специальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры» [20].
Напомним, что интеллигенция рассматривалась в СССР как класс, наряду с рабочим классом и крестьянством. Существует мнение (миф), что интеллигентом может называться человек с высшим образованием минимум в третьем поколении. То есть кто-то из родителей и прародителей должен также иметь высшее образование.
С таким пониманием интеллигентности принципиально не согласен Д. С. Лихачёв. Вот что он говорит по этому поводу в своих знаменитых «Письмах»: «Многие думают: интеллигентный человек – это тот, который много читал, получил хорошее образование (и даже по преимуществу – гуманитарное), много путешествовал, знает несколько зыков. А между тем можно иметь всё это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать в большой степени, а быть всё-таки внутренне интеллигентным человеком. Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью (а если он не смог получить образование, так сложились обстоятельства?)» [15]. Кто же тогда интеллигентный человек, по Д. С. Лихачёву? Вот какими чертами характера, по его мнению, такой человек должен обладать:
– восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории;
– если он может восхититься красотой природы;
– но интеллигентность не только в знаниях, а в способности к пониманию другого, способности войти в его положение, а поняв другого человека, помочь ему;
– не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти;
– оценит другого по достоинству (если он проявит уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных вопросов);
– богатство и точность своего языка;
– умение уважительно спорить;
– умение незаметно (именно незаметно) помочь другому;
– беречь природу, не мусорить вокруг себя (окурками, руганью, дурными идеями);
– терпимое отношение к миру и к людям;
– надо в себе развивать, тренировать то, что необходимо для творческого долголетия;
– приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и красивым (лицо человека, искажающееся злобой, становится безобразным, а движения лишены изящества) [15].
Неинтеллигентность Д. С. Лихачёв понимает как «злобную и злую реакцию, как грубость и непонимание других, как признаки душевной и духовной слабости, как человеческую неспособность жить» [15, с. 51—52].
Автор заключает эту оценку такими словами: социальный долг человека – быть интеллигентным. Это долг и перед самим собой. Это залог его личного счастья и «ауры доброжелательности вокруг него и к нему» [15, с. 54]. И великое счастье – принадлежать нашей современности и почитать всё лучшее в нашем прошлом и настоящем.
Даже беглый анализ говорит нам о том, что отмеченные черты характера и поведенияинтеллигентного человека в очень широком диапазоне, начиная от глубокой любознательности и экологии и заканчивая сопереживанием и заботой о другом человеке, по сути полностью совпадает с человеком ассертивным. Другие синонимы и более подходящие понятия в русском языке нам неизвестны.
2. Общая характеристика ассертивного, агрессивного и пассивного человека
2.1. Ассертивный тип поведения человека
Ассертивность и экология поведения
Экология поведения – это важнейший атрибут, определяющий «водораздел» между ассертивным и двумя остальными, агрессивным и пассивным, типами поведения. Экология напрямую затрагивает вопросы этики поведения человека, добра и зла, чистоты его помыслов, совести, справедливости и ответственности за свои поступки. Частично это было рассмотрено выше.
Опосредованно поведенческая (личностная) экология связана с общей экологией человека и окружающей его среды, с вопросами её загрязнения техническими отходами жизнедеятельности и вредных производств, влиянием на климат планеты и её растительный и животный мир, разрушением фауны и флоры.
Природа, давшая жизнь человеческому роду, «мстит» современному человеку за такое к ней отношение участившимися в последние годы гигантскими по площади пожарами, разрушительными наводнениями, небывалыми ураганами, цунами и землетрясениями, лишает крыши над головой, уносит каждый раз тысячи человеческих жизней. Фраза «Такого старожилы не припомнят» стала совершенно обыденной и кочует из одной телевизионной программы в другую по несколько раз на дню в течение целого года.
Варварски эксплуатируя природу, уничтожая её, мы уничтожаем и свою биологическую природу, как её лучшую часть, наделённую чувством и самосознанием. И поэтому каждый из нас в той мере, в какой он игнорирует вопросы экологии, должен быть отнесён к категории «некрофилов», отрицающих жизнь и её развитие в любых формах и проявлениях.
Выбросили вы из окна окурок, оставили на пикнике пустые бутылки, банки, пакеты и другой мусор или незаконно, варварски вырубили и вывезли лес себе на баню – всё это психологически вещи одного порядка: некрофилия как базовая сторона агрессивно-пассивного типа поведения.
Выше мы указывали, что развитие нашей духовности и человечности требует, согласно концепции Э. Фромма, выполнения некоторого биологического условия – удовлетворения до определённого минимума наших потребностей, начиная с базовых, физиологических (еда, сон, секс, материнский инстинкт и т. д.), потребности в безопасности (от диких зверей, преступников, здоровье, страховка и т. д.) и так далее, по А. Маслоу [32; 19].
И если этот ресурс будет истощён, то вместо духовного развития мы будем вынужденно бороться за своё жалкое существование. Так что последствия нашего отношения к природе в виде мировых катастроф и человеческих трагедий – это всё про нас, «любимых», но ещё сильно недоразвитых и несмышлёных «младенцев человечества», не видящих ни сук, на котором сидим, ни топор, которым безрассудно рубим этот сук! Как объяснить это движение к самоубийству? Откуда такая социальная слепота и глухота? Врождённый инстинкт смерти? Но Эрих Фромм доказал, что это скорее патология, нежели часть нашей биологической системы и её функций. И тогда напрашивается жуткий вопрос: что мы, общество, так серьёзно больны «на голову»?! И тогда что нас ожидает уже в ближайшем будущем?
Итак, сделаем некоторые выводы. Первое: экологический взгляд на природу характеризует социально зрелую личность и уровень её ассертивности в плане прогноза и ответственности за свои поступки по отношению ко всему окружающему, живому, в том числе к самой себе. Второе: степень этой ответственности с годами растёт.
Теперь вернёмся к социально-психологической экологии как составной части общей экологии.
Наряду с базовыми правами и принципами ассертивности – «разрешено всё, что не запрещено» и «делай всё по-своему», расширяющими свободу наших мыслей, творчества и поведения в целом, – ассертивность строится и на другом фундаментальном принципе – «не навреди», который издревле положен в основу медицинской практики и который ограничивает действие первого права (разрешено всё, что не запрещено).
В чём суть этого принципа – «не навреди»? А суть его в том, что, прежде чем как-то поступить в возникшей социальной ситуации, ассертивный человек должен оценить все возможные последствия этого, доступные его сознанию и социальному опыту. Что может произойти в ближайшем и отдалённом будущем в его социальном окружении, с другими людьми и с ним самим. Он должен просчитать все возможные, по его мнению, риски с точки зрения цены вопроса – иначе говоря, прежде всего с позиции нравственности, духовной чистоты. Кому и чем это угрожает, какие вредные последствия это может иметь. Ну, то есть всё то, что составляет основу нашей личной ответственности за творимое нами добро или зло.
Это предвидение, в свою очередь, требует определённой социальной зрелости и достаточно развитого «социального интеллекта», уровень которого можно приблизительно определить хотя бы по тесту на социальный интеллект Гилфорда. В отличие от общего интеллекта как «универсального решателя задач», социальный интеллект можно рассматривать как способность делать социальный прогноз последствия поступка, своего и других людей, с различных позиций: этики, возможных затрат и рисков.
И как незнание социальных законов не освобождает человека от ответственности, так же и не освобождает человека от ответственности непредвидение последствий собственных шагов – то, что отличает социально зрелую личность от ребёнка, а также от инфантильного или психически больного человека. Часто от преступника и злодея можно услышать такое «оправдание»: «Я просто оказался не в то время и не в том месте». Ключевое слово – «оказался», то есть по воле случая, а не по собственной воле, желанию и разумению. Как же быстро душа предаёт собственное тело! «Оказался» – как течением прибило. Признание абсолютной пассивности: полностью виноваты обстоятельства, а не преступник. Его социальный прогноз здесь отсутствует, точнее, отрицается, что для вменяемого человека не должно служить смягчающим вину обстоятельством.
Переоценка возможных негативных последствий нашего решения, чаще наблюдаемая у тревожно-мнительных людей, также нежелательна, поскольку ограничивает свободу использования человеком его ассертивных прав. Страх ответственности, как известно, сковывает инициативу. В каждом отдельном случае ассертивная личность оценивает баланс такой свободы и степени риска последствий.
Итак, свобода действий, возможность получать максимальное удовольствие, радость от жизни, но в пределах экологической чистоты и безопасности, и уж конечно, не за счёт других. Поскольку последнее связано напрямую с нашим влиянием на других людей, на их мысли и убеждения, на свободу их действий и качество их жизни, важно понять те психологические механизмы, которые отвечают за эту экологическую чистоту. Таких основных механизмов, на наш взгляд, два: стыд и совесть.
Стыд, как генетически более ранний механизм регуляции, представляет собой ориентацию личности на возможную оценку её поведения с точки зрения морали референтной (значимой для личности) группы, её этических норм и принятых группой (обществом) принципов поведения. Излишне говорить, какую огромную роль здесь играют родители и воспитатели. Ребёнок ориентируется на их одобрение и поддержку или, напротив, осуждение и первые оценки поведения, что хорошо, а что плохо. Во многом состояние стыда определяется тем, станет ли известным поступок личности и его последствия этой группе, её членам. Если да, то позор! За этим последует публичное осуждение проступка, в более зрелом, школьном возрасте – социальная изоляция личности и бойкот или физическая расправа со стороны одноклассников.
Таким образом, осуществляется внешне-социальный контроль в условиях межличностного общения. Внутренне это, как каждому из нас хорошо известно, ощущается в виде смущения, неловкости. Внешне, в поведении, мы опускаем голову, прячем глаза, сутулимся и краснеем, «сгораем от стыда».
Генетически позднее развивается совесть человека, как высший регулятор его нравственного, экологически ассертивного поведения. Она формируется на основе первого механизма, стыда, и уже является «внутренним» механизмом регуляции. Это тоже стыд, но уже перед самим собой, перед своим социальным «Я» как носителем и контролёром социальных и нравственных ценностей и установок, носителем своего «сверх-Я» (З. Фрейд) или «критического родителя» (Э. Бёрн). Для того чтобы этот регулятор включился, сторонние наблюдатели и партнёры по общению не нужны в ответственный момент принятия решения, но могут ещё мысленно представляться на переходном этапе развития совести.
Нравственная самооценка личности переходит в привычку, человек смотрит на самого себя критически и общается с этим рефлексивным «Я» в плане внутреннего диалога – неотъемлемого механизма саморегуляции: «Кто я? Что я чувствую? О чём думаю? Что намерен сделать и как? Какие последствия и для кого это будет иметь?» И т. п.
Чувство стыда и угрызения совести за нарушение нравственных норм и экологии поведения рождают в первом случае страх быть осуждённым авторитетными людьми, во втором случае – чувство вины.
В умеренной дозе и в случае действительного проступка они, эти чувства страха и вины, адекватны и весьма полезны. (Чувство страха вредит нам только в больших дозах и/или при длительном воздействии, и это будет позже рассмотрено подробнее.) Они заставляют нас изменять себя в лучшую сторону, признать свои ошибки и «покаяться». Но в случае неадекватности ситуации или своей чрезмерности они же делают нас беззащитными перед манипуляциями, где эти чувства (страх и вина) искусственно нагнетаются любителями поживиться за чужой счёт. Для верующих в Бога стыд перед другими людьми может сочетаться со страхом возможного наказания Божьего за нарушение его заповедей.
Так что, паркуя свой автомобиль, хорошо теперь подумайте о своей экологии: не помешает ли он другим автомобилям или пешеходам, не перекроет ли он проход для мамы с детской коляской.
Невербальный ассертивный человек
Что обязательно «проявится» на языке тела ассертивного человека, в его позе, во взгляде, жестах, мимике, походке, голосовых изменениях?
В силу того что ассертивный человек обладает ощущением внутренней свободы и независимости, он чаще бывает раскован, прежде всего мышечно. Для него нехарактерны напряжённые позы, сцепление пальцев рук в «замок» и перекрещивание рук и ног. Если пальцы и переплетены, то не до белого цвета своих кончиков, кисти могут легко размыкаться и вновь смыкаться, участвуя в различных «выразительных» жестах.
Открытость миру и себе самому, а также доброжелательность выражаются в открытом взгляде, приветливой улыбке и общем обаянии. Одновременно всё это делает ассертивного человека весьма конгруэнтным, то есть «согласованным» по всем частям сознания и по языкам, вербальному и невербальному.
Ассертивный человек старается не прибегать ко лжи, вся идущая от него информация не противоречива. Ему доверяют. Речь его выразительна, темп речи равномерен. Говорит спокойно и уверенно. Иногда заметно, что мысль рождается прямо по ходу рассуждений, и тогда он «пробует на зуб» разные слова или их сочетания, не смущаясь некоторой запинкой и «творческим заиканием», что указывает на его высокую креативность и уверенность в себе.
Он основателен, не суетлив, и ему несвойственно торопить время и невротично и нетерпеливо стучать пальцами по столу, как бы подгоняя собеседника, или, сидя, трясти ногой. Выступая публично, ассертивный человек уверенно, но умеренно жестикулирует, дополняя, иллюстрируя сказанное, поворачивает руки ладонями кверху, проявляя открытость и доверие к оппоненту, или миролюбиво складывает их в виде купола, что иногда используется манипуляторами-политиками для маскировки лжи и искусственной демонстрации «открытости» и «доверия». И если ассертивный человек смотрит сверху вниз на другого человека, то, по меткому выражению Г. Хазанова, лишь для того, чтобы помочь ему подняться с колен на ноги.
Однако при интерпретации типа нужно не забывать одно правило. Любой жест многозначен, и нужно отслеживать их совокупность и конгруэнтность. Если этого не делать, то такой жест, как складывание рук на груди, будет однозначно интерпретироваться вами как проявление закрытости и неудовлетворённости или агрессии, в то время как человеку просто могло стать холодно [39].
Ассертивность и социальная роль в группе
Рассмотрим, какая социальная роль в плане руководства, подчинения и влияния на объединение людей в группу окажется более всего «к лицу» ассертивному типу поведения. А ниже мы посмотрим особенности его социально-ролевого поведения с точки зрения манипуляций и защиты от них.
В любой социальной группе, в семье, среди друзей, на производстве ассертивный человек успешнее всего может играть как минимум одну из трёх разных ролей: неформального лидера команды, главного оппонента лидера и его сторонников и роль «совести» команды, носителя нравственных ценностей и установок группы. Если социальные условия позволяют, то неформальный лидер может стать руководителем демократического типа. И тогда не авторитарность, не жажда власти, а заслуженный авторитет ассертивной личности будет цементировать и скреплять команду. Возможной «помехой» лидерству ассертивного типа может явиться отсутствие у него амбиции властвовать, так как, в отличие от агрессивного типа личности, он не стремится к власти над другими людьми и/или к продвижению по служебной лестнице, карьере. Власть для него может иметь значение лишь в качестве необходимого, востребованного социальной ситуацией средства, как, впрочем, и деньги, но не смысла и не цели его жизни.



