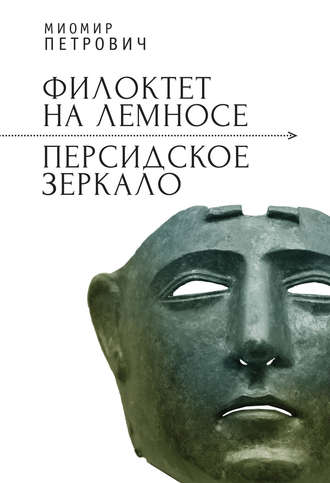
Полная версия
Филоктет на Лемносе. Персидское зеркало
Он боялся, что в чужих руках знаменитый лук станет более гибким, точным, намного смертоноснее, и предполагал, что материал, из которого был создан предмет его сурового, беспощадного обожания, оказавшись в чужих руках, уже при первом выстреле дал бы чужаку куда больше любви, нежели ему самому. Со временем тонкий слух молодого человека стало оскорблять даже само выражение «оружие Геракла». Спустя некоторое время он исключил из своего лексикона имя прежнего владельца, уверившись в том, что, вычеркнув из прошлой жизни оружия следы присутствия Геракла, еще сильнее привяжет лук и стрелы к себе. Он начал ощущать невероятной силы беспокойство, ладони делались мокрыми от пота, когда он рассказывал кому-нибудь о встрече с великаном. Такие рассказы, казалось, отдаляют его от смертоносной любовницы, а оружие возвращается в руки бывшего мужа, в руки владельца настоящего, ему пока неизвестного волшебства.
И потому он все время стремился в леса, на скалы и дикие поляны, где они оставались только вдвоем, забыв об окружающем мире, слившись в теплом, единственно осмысленном действии… в объятиях. Созданные друг для друга, оружие и его хозяин, растворились в природе, стали неотъемлемой частью дикого мира, который окружал их, получив, наконец, возможность забыть про остаток рода человеческого и предметы, произведенные его руками, были вечно начеку, всегда готовые в любом шорохе, который встречал их в кустах или подлеске, в каждом движении увидеть себя, словно в зеркале. Филоктет узнавал себя в движениях испуганного животного, по следам которого мчался, а оружие ощущало себя в свисте, шипении, воплях добычи. Так они претворяли совместное существование в гармоничную жизнь с дикой природой, составной частью которой они стали, хотя и по другую ее сторону, поскольку сеяли всюду смерть.
Родной дом Филоктета пополнялся бальзамированными головами жертв, головами, которые месяц спустя выбрасывали на свалку рядом с ручьем, журчание которого не справлялось с царящим смрадом, возникавшим от соприкосновения яда с мясом. Филоктет становился все более ловким в охоте, на которую тратил свою мощную, вновь и вновь возникающую энергию, а оружие все в большей мере становилось его продолжением. Казалось, он сам превратился в лук и стрелы.
Однако временами ему чудилось, что сам превращается в добычу. Непротивление жертвы смерти, попытка побега, а после попадания – пассивное ожидание момента, когда всё вокруг жертвы угаснет, заставляло его задумываться. И, как это бывает, когда отдельные детали и предположения в одно прекрасное мгновение обретают кристальную ясность, когда длительное накопление впечатлений укладывается в единую оценочную матрицу, в Филоктете стала прорастать некая неопределенная злость из-за возможностей, которые предоставляла ему нарастающая охотничья ловкость. Злость из-за животной, оргаистической радости в момент убийства. Неужели Космос в самом деле так искривлен, сотворен так, что в человеческие руки вложено уничтожение, убийство ради оттачивания мастерства, убийство ради спорта?
Филоктета неотступно преследовала мысль о том, что всё его существование свелось к роли обыкновенного палача.
Со временем он все более ощущал, что становится рабом оружия, и для того, чтобы удовлетворить ненасытную любовницу, придумывает беспричинные поводы, чтобы начать очередную охоту, нуждается в каждодневном преследовании и убийстве дичины, перестает быть энтузиастом, великолепно владеющим искусством охоты, и превращается в холодного профессионала, идеально освоившим механизм смерти.
С тех пор каждый взгляд на лук, утром, сразу после сна, был исполнен дрожи, неуверенности, боязни, что в наступающем дне растворится его умение, что он окажется в дурацком положении, усиленно припоминая опыт вчерашнего дня, что не сумеет правильно натянуть тетиву, точно прицелиться и попасть в жертву. Наступил сезон дождей, и любовник чувствовал себя брошенным, совсем как человек, которого навсегда покинул предмет его обожания, оставив в сердце зияющую пустоту. Конечно же, как это и случается с любовниками, странное ощущение беспомощности не делало его бессильным, напротив, оно все сильнее гнало его мышцы и инстинкты в леса и поля, не позволяло удовлетвориться одной жертвой в день. Незаметно, шаг за шагом он терял точность и терпеливость, и уже не мог планировать свои действия, не ощущая более обостренного слияния собственного духа с луком, стрелой и жертвой, и это заставляло его в бешенстве выпускать стрелу за стрелой.
Никто, кроме него самого, не был в состоянии обнаружить эти перемены, и со временем его малая религия настолько извратилась, что превратила заклятого стрельца в проклятого охотника. Добыча стала единственным смыслом преследования, терпения, выжидания в засаде, растворения в природе, оглядывания пространства, и только потом следовало натяжение тетивы, прицеливание и задержка дыхания. В конце концов, важнее всего стала смерть. На первый взгляд, все эти изменения отражались всего лишь в неприметном сужении зрачка, которое только очень проницательный собеседник мог заметить во взгляде Филоктета. Тем не менее, к нему продолжали приходить охотники, но уже не для того, чтобы вечером, у костра, рассказывать друг другу невероятные истории, но чтобы подбить юношу пересказать в деталях (а он обращал в слова мельчайшие подробности минувшей охоты настолько точно, что никто не мог с ним соперничать в этом) все фазы убийства животного и поведения добычи в смертный момент. Его все еще навещали торговцы, и на притолоке его двери оставляли зарубки, вырезали в дереве знаки, которые, возвращаясь с пустыми руками, они оставляли для сведения конкурентов, которые наверняка придут к юному охотнику выторговывать лук.
Юноша перестал демонстрировать оружие гостям, прекратил хвастаться им. Теперь он заворачивал его в огромные дубленые шкуры, демонстрируя его лишь безоблачному небу Фессалии, и то лишь тогда, когда заходил в дикую чащу и наверняка оставался один-одинешенек. Но, как это зачастую бывает в случаях ревности, не имея ни единого повода заподозрить любовницу, скверное чувство глубоко сидело в душе юноши, постоянно требуя доказательств любви и вызывая панический страх. К тому же, факт сокрытия оружия быстро вызвал сильное недовольство в народе.
Пеант по-прежнему занимался козами, перейдя на постоянное жительство к ним в маленькую дощатую постройку, а Демонасса лишь изредка входила в собственный дом, чтобы помочь женщинам очистить стены от смердящих трофеев, место которых тут же занимали новые, так что в доме оставался жить один Филоктет. Напрасны были ее старания принудить Филоктета к браку с какой-нибудь милой девушкой из Фессалии, напрасно негодовали местные жрецы, а также Тахам, фессалийский первосвященник, который заметил, что юноша не перестает игнорировать волю богов. Филоктета даже на секунду невозможно было оторвать от его невесты. Люди все подозрительнее посматривали на вчерашнего героя. Разве это не он в ночь полнолуния, когда Гера запрещает охотиться, вернулся с тремя дикими баранами на голых, окровавленных плечах, настолько залитый кровью, что его почти невозможно было узнать? Разве не он измазал кровью даже губы, не опасаясь уже отравы, разве не он, умытый кровью, смотрел с таким безумием во взоре, словно сам оказался на огромном костре рядом с Гераклом?
Языки какого пламени лизали отважного и удачливого охотника, юношу, который в тишине, с призрачным спокойствием делал свое дело, словно ведя тайный, скрытый диалог с собственной судьбой? Что за мутные воды омывали его мощь и силу? Однажды его прежние обожатели открыто возмутились тем, что им больше не показывают оружие, как будто эти чудесные провозвестники смерти превратились в некий палладий, тотем, запретный и обожаемый предмет. Под крики и удары палкой Филоктет отогнал их от своего дома. Так притча о храбром и непогрешимом охотнике стала изменяться, обращаться в собственную противоположность во время долгих скитаний по пыльным греческим дорогам, от рассказчика к рассказчику, и со временем Филоктет стал недостойным человеком, не заслуживающим обладания таким мощным оружием, теперь он был опасен даже не столько для людей, сколько для самой Геракловой реликвии. И стали расти ряды претендентов, возникали списки желающих заполучить оружие, и на фессалийском плоскогорье замаячили силуэты уже не торговцев, но грабителей.
В один прекрасный день, когда ветерок шнырял по земле, вздымая небольшие клубки красноватой пыли с троп, проложенных по целине, в поселок, без сопровождения и предупреждения, вошел хорошо тренированный человек, на обнаженном плече которого покоился великолепный лук. Говорят – кто-то из селян узнал его по рассказам и описаниям – что он пришел с Родоса, чтобы вызвать охотника на поединок. Добравшись до дома Филоктета, он с грохотом бросил на землю оружие. Вместе с этим оружием в жизни Филоктета рухнула целая декада.
Человека звали Кратех, или «Тот, чья душа призывает».
– Нелегко было, о пастух, совсем не просто было одолеть такой путь с острова до твоей дыры, которой только высокая гора может придать хоть какую-то серьезность, трудно было плыть по бурному морю, – разукрашивал пришелец свою речь так, как это всегда делали обитатели Родоса, стараясь таким образом упрятать обычную глупость вырожденцев-островитян. При этом он избегал смотреть Филоктету в глаза, уперев взор куда-то выше, в лоб: – Но, вот видишь, о пастух, я пришел, чтобы вызвать тебя. Пойдем на волю, в твои нищие угодья, поставим перед собой цель – скажем, какое-то число дичи, и посмотрим, кто из нас лучший.
– Я не знаю тебя, стрелец, и не понимаю, почему ты так отвратительно и безобразно говоришь о человеке, которого увидел впервые в жизни? Скажи, есть ли причины, по которым я могу отказаться принять твой вызов? – Филоктет отвечал ему, сдерживая дыхание после каждого слова, как будто прямо сейчас ему надо прицелиться и неотвратимо выстрелить.
– Если ты не примешь вызов, то вся страна узнает, что ты не сошел с ума, как говорят теперь, а просто струсил. Если победа будет за мной, ты отдашь мне оружие, и наконец-то оно попадет в руки того, кто сумеет оценить его по достоинству и употребить в дело!
– А если ты проиграешь? – кровь клокотала в теле Филоктета; их беседа все больше напоминала схватку двух самцов за обладание самкой.
– Тогда ты убьешь меня, разрубишь мое тело на мелкие кусочки, которыми накормишь своих псов, кишки натянешь вокруг дома вместо ограды, а голову приколотишь к стене! Ну, пошли? – Кратех говорил спокойно, будто не разрывал словами свое тело на части.
– Пошли! – ответил Филоктет.
IV
Возвращаясь налегке, с невесомым коромыслом на плечах – инструментом, который в минуты глубочайшего самосозерцания или погружения в редкие свободные минуты меж обыденных занятий и хлопот по поводу раны на ноге неодолимо напоминал ему оружие, от которого он отказался, но которое постоянно возникало перед его взорами, которые он беспрестанно, хотя и скрытно, бросал вокруг себя, маня прежнего владельца вернуться и простить ему всё – Филоктет плелся по тропе к хижине, попирая землю неуверенными и крайне замысловатыми движениями ног. Тропа была высечена в скале над морем, местами обрызганная капельками возмущенной воды, в облачные и ветреные дни захлестывающей проторенную дорогу. Итак, путь этот был каменист и лишь местами присыпан бесплодным лемносским красноземом, и со стороны моря напоминал сломанную челюсть великана, клыки которого были из белого, чуть пожелтевшего, известняка.
Мужчина хромал, ковылял, время от времени пользуясь коромыслом как посохом, а иной раз, для поддержания равновесия, как шестом канатоходца, и все это время он не мог отделаться от мыслей, в которых он нынешнее свое состояние рассматривал всего лишь как отблеск, как бледную, на мгновение ослепляющую, но в действительности ложную, пустопорожнюю копию прежней сути. Попав на этот остров, он уже не мог согласиться с тем, что смысл, цель его судьбоносно спланированной жизни рухнула, не увязываясь с физическим бытием, не прекращая ни его, ни непрерывной борьбы за существование. Таким образом, брошенный Кем-то, о Ком он никогда не мог с уверенностью сказать, что Тот существует, со временем поняв, что Тот, Кто царит над ним, на самом деле есть никто – Филоктет вынужденно продлевал жизнь, делая вид, что ему никто и никогда не был нужен.
Мужчина нервно стряхнул с себя мысли, словно они были надоедливыми насекомыми, которые, учуяв пот прокисшего тела, прилипли к нему, и ловко перебросил закинутую перед этим на спину шкуру опять на грудь, которая, оросившись нездоровым и не только напряженной ходьбой вызванным потом, стала вздыматься все выше и выше из-за крутизны высеченной в скалах тропе. Вдруг ему показалось, что воздухом пронеслось козье блеяние, донесенное струями ветра; в это мгновение ему даже показалось, что он узнал нервный, изголодавшийся голосок Конелии, но потом все стихло, и ветер продолжил свой лёт, унося с собой этот звук, а может и не звук, а просто видение и тоскливое желание приблизиться к дому. Филоктет перевел взгляд вверх, к горизонту и истоку тропы, на вершине скалы сливавшейся с мутным небом, на возвышенность, ставшую величайшим испытанием для его больной ноги, особенно в такие жаркие дни, как сегодняшний, когда рана вновь открывается, выставляя на обозрение только что народившегося дня очередной образчик смердящего, ядовитого гноища. Филоктету показалось, что на самой вершине прибрежного холма вырос пыльный гриб – неотвратимое свидетельство какого-то передвижения. Усталого мужчину на мгновение охватила слабость, вызванная, возможно, неготовностью к встрече с кем-либо, и он остановился, избрав позицию, в которой легче всего было хранить равновесие. Сбросив с плеч коромысло, он ухватил его как дубину, которой, если придется, можно будет оборониться от приближавшегося островитянина.
Однако пыльный гриб осел, и вскоре Филоктет сквозь легкую дымку разглядел, что навстречу ему движется другой хромоногий, с напряжением совершая шаги, поразительно схожие с его собственными. Симметричное колыхание приближающегося убогого тела показалось ему в молниеносном движении времени зеркалом, которое с некоторым опозданием повторяет его облик и походку, пока не рассмотрел, что навстречу движется ребенок с гниющей на ноге раной. Это Велхан шагал навстречу отцу. Его маленькое тельце осваивало пространство ловкой хромотой, без гнева, без малейшей злобы, не осознавая, что в принципе можно ходить иначе, легко, без напряжения, ибо он не мог представить себе, что существуют люди со здоровыми ногами. Глядя, как сын ковыляет навстречу, не считаясь с собственной хромотой как с препятствием, Филоктет не мог не задуматься над тем, как его нецелимая рана воздействовала на плод его семени, но и на этот раз перед глазами пастуха так и не возникла картина судьбы или проклятия, а просто в душе возникло примитивное чувство гордости за свершившийся факт продления собственного существования.
Ребенок по-своему был для него, да и для Хрисы, в большей степени раной, нежели сыном. Глядя на него, Филоктет понимал, что еще тысячу раз он проклянет себя, что еще тысячу раз он подавит желание жить дальше, чтобы заставить себя полюбить рану ребенка, который был им рожден с собственной незаживающей язвой. А Хриса, потеряв двух своих дочерей, которых, впрочем, никогда не считала воистину своими, принимая во внимание обстоятельства их появления на свет, была просто вынуждена видеть в Велхане кару небесную. Кару за переезд в хижину чужака, за то, что она влюбилась в этого высокого мужчину, грека, а не лемноссца, который каждой клеточкой своего тела был настолько иным, что следовало искать от него спасения, потому что он всем своим обликом вываливался из обыденной жизни загнивающего сообщества островитян – этого стада недочеловеков. Наверное, именно потому она любила сына более, чем любое другое живое существо, больше, чем Филоктета, потому что она видела в Велхане сначала ожиданное наказание, и только потом – ребенка.
Охотник, как и неоднократно прежде, всматриваясь в походку хромого ребенка, подумал, что, видно, единственное спасение, единственный выход из сложившейся ситуации, из этой фантастически призрачной жизни есть самоуничтожение. Самоубийство. Он, как и прежде, возжелал, чтобы этого ребенка не было, чтобы Велхан прямо на его глазах превратился в пыльную дымку, чтобы он утвердился в его сознании как призрак, привидение, противостоящее живому и отравленному крохотному человеческому тельцу. Но в тот момент, когда ребенок, жадно распахнув руки в предчувствии отеческого объятия, приблизился к нему вплотную, в душе Филоктета вновь что-то расщепилось, глубоко раскололось, и в ней возникла трещина, вызвавшая утробный, из недр идущий крик, опустошение, вывернувшее нутро наизнанку, и вновь возникшее человеческое существо покрылось снаружи внутренними органами и слизистой, в то время как кожа осталась внутри, и это новое существо в мгновение ока превратилось в воплощенную боль, в мощный генератор чувства, с бешеной скоростью влекущего к смерти. К смерти, вызванной невероятной массой ощущений.
И вот так, вновь переменившись, в мгновение ока обрушившись внутри себя самого, Филоктет рванулся в объятия к сыну, осыпая поцелуями чело и лицо человечка, который, осуществив свое желание, сразу утратил к нему интерес, и так вот, лаская его, он старался не оцарапать огрубевшими пальцами тщедушную ткань тела своего наследника. Смрад детской язвы достиг его ноздрей, смешавшись со смрадом боевого яда Геракла и собственным смрадом Филоктета, и в крыльях его носа зашевелились мелкие насекомые, крошечные мураши. Он подумал о Хрисе. Почему эта женщина обречена жить в смраде, который у каждого нормального человека, от греческого воина до обитателя Лемноса, вызывает отвращение и боязнь галопирующей во весь опор смерти?
И тут они оба вздрогнули. Внезапно, без всяческого предвестия, с моря донесся пронзительный звук – рев рыбацких сигнальных труб. Мужчина, не выпуская из объятий ребенка, обернулся к морю. Над поверхностью бескрайней водной лазури, стесненной хмурым небом, разнесся этот звук, звук тревоги. Впервые Филоктет услышал эти трубы в тот день, когда, угнетенный смертельной болью, стертый в порошок лихорадкой и желанием как можно скорее покончить с собой, лежал на палубе судна, приближавшегося к Лемносу. Вот и теперь этот звук упреждал островитян о приближении чужого корабля. Ребенок заплакал. Филоктет бросил еще один безнадежный взгляд в пучину. Там не было ничего. Однако его не оставляла уверенность, что с какой-то иной стороны, из-за холма, который скрывал собою море, приближается судно. За время его пребывания на острове подобное случалось всего несколько раз. Как правило, это были заплутавшие рыбаки, реже – торговые суда, экипажи которых принимали завесу из облаков за воздушный карман (именно такой был невдалеке от Трои), хотя на деле это было последствием вихрей, проносившихся над островом.
Может, война закончилась, и распущенное войско, троянское или греческое, шатается по окрестностям?
V
Весь этот маскарад, спектакль, устроенный Кратехом, равно как и преувеличенный интерес фессалийцев к исходу поединка, сначала вызвали у Филоктета привычное отвращение. Юноша и прежде не опасался за исход подобных дуэлей, черпая силу и самоуверенность в священнодействии со своим оружием и всеми его составными частями, и после таких откровенных угроз и хвастовства он еще больше уверился в себе, намного больше, чем когда-либо. Уверенность и непоколебимость воли проистекали не из мощи, которой само по себе обладало его оружие, но его истинный покой и хладнокровие опирались на полную уверенность в том, что его связь с оружием, его страстная любовь к луку и стрелам, к природе и охоте – вечны.
Тем не менее, втягиваясь против воли в поединок, понимая, что в конце соревнования победа будет на его стороне (Кратех хитроумно провоцировал в нем охотника, предлагая соревноваться в количестве и качестве добычи, а не в ловкости и точности стрельбы), он знал, что соперничество не закончится мирным уходом проигравшего, и что ему, скорее всего, придется спустить всех своих собак на более сильного и старшего конкурента. Отвращение вызывали у него и распускаемые слухи о том, что он сошел с ума, что, утратив разум и человеческий облик в общении с прочими охотниками, он утратил и право на обладание таким великолепным оружием, данным ему богами. Эти слухи вызывали у него не просто отвращение, но и ненависть, потому как были еще одним доказательством того, что сообщество людей (это он ощутил в раннем детском возрасте) всего лишь паутина лжи и сплошное бесцеремонное вмешательство в чужую жизнь.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Перевод: С. Шервинский (Москва «Искусство», 1979).
2
Перевод: Г. Косарик (Москва «Прогресс», 1992).
3
Перевод: М. Коренева (СПб, «Азбука», 2000).

