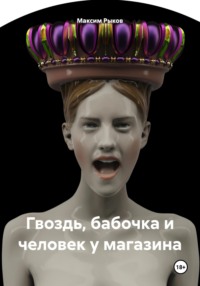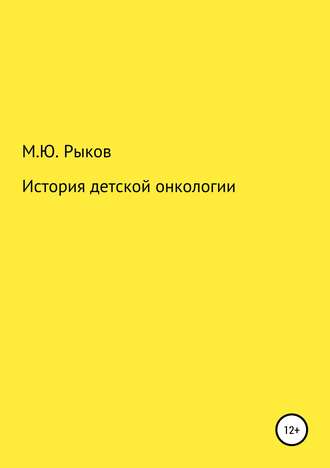 полная версия
полная версияИстория детской онкологии
12 ноября 1887 г. больница вновь начала работать. Хотя она по-прежнему была рассчитана на 100 коек, но стала более современной: в здание провели канализацию, подключили электричество, оборудовали механическую прачечную, прозекторскую, морг. По проекту архитектора Александра Степановича Каминского (1829–1897) в больнице построили амбулаторию. Стационар разместился в просторном трехэтажном корпусе. На территории была построена церковь. В 1898 г. усадьбы Коншиной и Щербатовых объединили в одно владение [15].
Интересно, что в отчете Софийской больницы указывалось, что за период времени с 1887 по 1892 гг. из 1552 пациентов у 67 (4,3 %) были диагностированы опухоли.
В 1876 г. в Москве была открыта детская больница Святого Владимира на 100 коек, построенная на пожертвования в размере 400 тыс. руб. крупного промышленника и предпринимателя П.Г. фон Дервиза (1826–1881). Больница была названа в честь памяти детей фон Дервиза – Владимира (1854–1855) и Андрея (1868–1869) – и построена по образцу Детской больницы принца Петра Ольденбургского в Петербурге по проекту московского архитектора Н.А. Тютюнова (1833–1916) и приглашённого из Санкт-Петербурга архитектора Р.А. Гедике (1829–1910). Главным условием фон Дервиза было сохранение 100 бесплатных коек независимо от будущего расширения больницы.
Первым директором больницы был действительный статский советник[33] П.А. Вульфиус (1830–1896). После революции больнице было присвоено имя погибшего при подавлении Кронштадтского восстания в 1921 г. большевистского комиссара И.В. Русакова (1877–1921), педиатра по образованию. Лишь в 1991 г. больнице было возвращено историческое название – ДГКБ им. Святого равноапостольного князя Владимира, под которым она работает и в настоящее время.
В 1886 г. на деньги графа Сергея Владимировича Орлова-Давыдова (1849–1905), пожертвовавшего в общей сложности 1 млн. руб., в Москве была открыта детская больница Святой Ольги[34] на 30 коек, названная в память о матери мецената Ольге Ивановне (1814–1876). Проект больницы был разработан архитекторами К.М. Быковским[35] (1841–1906) и В.В. Барковым (1852–1905) совместно с лейб-педиатром К.А. Раухфусом[36] (1835–1915), директором больницы Святого Владимира П.А. Вульфиусом (1830–1896) и педиатром Н.Е. Покровским.
Больница была построена на территории, принадлежавшей Императорскому Человеколюбивому обществу[37] – крупнейшей благотворительной организации Российской империи. В больнице, помимо терапевтического и хирургического отделений, было амбулаторное, состоявшее из четырех изолированных палат с отдельным входом и общей ванной. Хотя амбулаторный прием был рассчитан на 80 – 100 человек, иногда в день принималось более 200.
Немалый вкалд внес как в развитие медицины, так и в лечение простых граждан Российской империи и Советского государства внес Л.П. Александров (1857–1929). Леонид Петрович, окончивший медицинский факультет Московского университетата в 1881 г., начал свою карьеру с должности земского врача в Ливенском уезде Орловской губернии, затем прошел стажировку в Германии и Франции, продолжив работу помощником прозектора при кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии Московского университета, заведовал которой в те времена профессор А.А. Бобров (1850–1904)[38]. В 1893 г. Леонид Петрович защитил докторскую диссертацию на тему «Высокое сечение мочевого пузыря с наложением шва». В 1889 г. он впервые описал симптом утолщения кожной складки при начальных стадиях кокситов. С 1886 г. Л.П. Александров работал старшим врачом хирургического отделения Больницы святой Ольги, а в 1889–1927 гг. занимал должность главного врача этого лечебного учреждения. В 1883–1885 гг.
Отличительной особенностью больницы было то, что всех, приходивших на амбулаторный прием детей, бесплатно кормили завтраками. Лекарства также выдавали бесплатно. За детьми в больнице ухаживали десять нянь, подчиненных надзирательнице. В настоящее время в здании больницы находится филиал «Психоневрологического диспансера № 7» г. Москвы.
Карл Андреевич Раухфус, упомянутый нами выше, участвовал в создании не только больницы Святой Ольги в Москве. Он был инициатором строительства и первым главным врачом Детской больницы принца Петра Ольденбургского в Петербурге, построенной в 1896–1897 гг. на личные средства внука Павла I, Петра Георгиевича Ольденбургского (1812–1881). Из отчета этой больницы за 1895–1896 гг. мы узнаем, что из 799 больных, обращавшихся за помощью, у 33 (4,1 %) детей были диагностированы различные опухоли.
Больница продолжала работать и в советские годы, но уже под именем К.А. Раухфуса, что являлось, скорее, исключением для советской власти, которая предпочитала присваивать учреждениям имена людей, имевших другие заслуги, тогда как Карл Андреевич, будучи лейб-педиатром[39] при Дворе Николая II, занимался лечением цесаревича Алексея Николаевича (1904–1918), страдавшего гемофилией. Все труды доктора в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. перечеркнул Яков Михайлович (настоящее имя и отчество – Янкель Хаимович) Юровский[40] (1878–1938) в подвале дома, конфискованного у инженера-строителя Н.Н. Ипатьева (1869–1938). Более подробно события тех времен описаны в соответствующей главе.
Тем не менее, и под новым именем больница продолжала развиваться. В 1925 г. в ней было открыто первое в СССР ЛОР-отделение для детей, а в 1926 г. – первое неврологическое отделение. Больница работает и в наше время. Лишь в 2007–2010 гг. была проведена ее реконструкция.
Таким образом, к 1900-му г. в Москве было три детских больницы – святой Софьи, святого Владимира и святой Ольги в общей сложности на 170 коек. Учитывая, что детская смертность в те годы была высока, имевшихся больниц было не достаточно.
История детской онкологии в России неразрывно связана с четвертой, открывшейся в Москве детской больницей – Морозовской.
Морозовская больницаМорозовская больница была построена в 1900–1906 гг. на пожертвования купца 1 гильдии Викулы Елисеевича Морозова (1829–1894). Однако деньги на ее строительство – 400 тыс. руб.[41] – пожертвовал не сам Викула Елисеевич. Лишь в 1898 г. их передал его сын Алексей Викулович (1857–1934), выполняя завещание отца [16].
В завещании В.Е. Морозова говорилось не только о желании построить на переданные им деньги детскую больницу и присвоить ей имя дарителя, но указывался и предпочтительный район строительства – Замоскворечье. Учитывая, что уже имевшиеся больницы располагались в центральной и северо-восточной части Москвы, предлагаемое в завещании место было очень удобно.
Для строительства была выделена территория Конного рынка[42], который был перенесен за Покровскую заставу, на место, где в настоящее время располагается Новоконная площадь. Хотя переданных средств хватало лишь на постройку больницы на 150 коек, на заседании Комитета общественного здравия[43] было решено построить больницу на 340 коек, дополнив необходимую сумму из городского бюджета и пожертвований москвичей.
Архитектором больницы был И.А. Иванов-Шиц (1865–1937), впоследствии реконструировавший Большой Кремлевский дворец[44] под зал заседаний Верховного Совета СССР. Первым главным врачом больницы был Н.Н. Алексеев (? – 1927), работавший до этого педиатром в больнице Святого Владимира. С ним связан интересный факт: Николай Николаевич возглавлял больницу с момента основания до 1927 г., скончавшись на рабочем месте, однако возглавлял с перерывом. В 1918 г. он был снят с должности “в связи с крутым нравом” и до 1922 г. главным врачом был Владимир Александрович Колли (1864–1940).
Изначально предполагалось сделать больницу инфекционной, поскольку свирепствовали эпидемии дифтерии, тифа, скарлатины, отсутствовали антибиотики[45], и в городе было лишь небольшое количество коек для инфекционных больных. При подготовке проекта больницы был изучен опыт Англии и Германии, благодаря чему для каждого инфекционного заболевания планировалось построить отдельный корпус. Поскольку медицинский персонал тоже мог быть переносчиком инфекций, в каждом корпусе в надстройке второго этажа были спроектированы комнаты для проживания персонала только этого корпуса.
В 1900 г. было начато строительство, а уже 28 апреля 1902 г. на первом этаже административного корпуса была открыта амбулатория для инфекционных и неинфекционных больных. Причем для исключения контакта тех и других при входе пациентов встречал привратник, сортировавший потоки в зависимости от причины обращения. Ежедневно принималось до 50 больных, причем силами лишь семи врачей (инфекционистов, педиатров и хирурга), а также пяти фельдшериц и девяти нянь. В 1903 г. в больнице был открыт стационар в трех первых инфекционных корпусах, предназначенных для лечения скарлатины, дифтерии и смешанных инфекции. В 1906 г. было открыто еще 6 клинических корпусов и жилой корпус для персонала, в 1907 г. – отдельный кабинет, где принимал ЛОР-врач.
Всего в девяти корпусах было 340 коек – 89 терапевтических, 55 хирургических и 196 инфекционных. При этом штат медицинского персонала был невелик. В каждом отделении работал один старший врач (в инфекицонном – два), один палатный и врачи-ассистенты (один в терапевтическом отделении, два – в хирургическом и три – в инфекционном). Средний медицинский персонал в терапевтическом отделении состоял из 22 сиделок, 5 палатных надзирателей, 3 сестер милосердия и 3 служанок, в хирургическом – из 3 палатных надзирателей и 16 сиделок, в инфекционном – из 46 сестер милосердия и 40 служанок.
Оснащение больницы было на высоком уровне. Например, в хирургическом отделении имелся рентгенологический кабинет[46] – первый в Москве. Также больница располагала своими лабораториями, водолечебницей и “электротерапевтическим кабинетом”.
На постройку и оснащение больницы было затрачено 1 млн. 148 тыс. 142 руб. Это были не только деньги из городского бюджета, но и пожертвования москвичей. Большой вклад внес купец Александр Андреевич Карзинкин[47], пожертвовавший на строительство корпуса для грудных детей, открытого в 1914 г. Корпусу было присвоено имя его дочери Софьи Андреевны Карзинкиной, скончавшейся от туберкулеза.
С каждым годом возрастала и загруженность больницы: если в 1903 г. было пролечено 1380 пациентов, то в 1907 г. – уже 5463, а в 1910 г. – 7931. При этом больница продолжала модернизироваться. Например, в 1911 г. в дифтерийном отделении были установлены стеклянные перегородки между кроватями, что уменьшало вероятность распространения внутрибольничных инфекций.
Советская власть также не забывала уделять внимание педиатрии. В 1930 г. в Морозовской больнице было открыто первое в СССР боксированное отделение и построено еще три инфекционных отделения с полубоксами для лечения больных со скарлатиной, ветряной оспой и корью, а в 1933 г. – первое отделение с 26 “мельцеровскими”[48] боксами для полной индивидуальной изоляции больных. В 1932 г. было открыто оториноларингологическое отделение, в 1934 г. – первое в городе ревматологическое отделение и медицинское училище для подготовки квалифицированных кадров, а в 1936 г. – пункт переливания крови.
В годы Великой Отечественной войны подвалы корпусов были переоборудованы под отделения. Здания были существенно разрушены в первый же налет фашистской авиации на Москву. Тем не менее, больные продолжали поступать, и каждый из них имел в бомбоубежище свою постоянную койку. Несмотря на тяжелые военные и послевоенные годы, в 1942 г. в Морозовской больнице было открыто детское неврологическое отделение, в 1947 г. – первое отделение для больных с туберкулезным менингитом, в 1952 г. – первое офтальмологическое отделение и городская детская офтальмологическая поликлиника.
С 1904 г. в Морозовскую больницу стали направлять детей с подозрениями на онкологические заболевания. Будущий академик АМН СССР и основоположник детской хирургии Т.П. Краснобаев[49] (1865–1952) периодически публиковал данные о случаях выявления опухолей у детей. К 1969 г. через стационар этой больницы прошло более 2 тыс. детей с различными злокачественными опухолями, а в архиве сохранились истории болезни пациентов, которым еще в 1905 г. Тимофей Петрович поставил диагнозы остеосарком. Патологоанатомическое отделение больницы имело самый большой банк материала и опыт диагностики злокачественных опухолей у детей в стране.
Вполне закономерно, что в 1951 г. в больнице, поменявшей при советской власти название на ДГКБ № 1, был открыт первый в стране кабинет для лечения детей с опухолями.
Глава 2. Педиатрическая служба в Придворной медицинской части
Придворные врачи всегда занимали особое место не только в жизни страны, но, в той или иной степени, влияли на историю. В самом деле, если бы цесаревичи Николай Александрович (1843–1865), первый сын Александра II, или Георгий Александрович (1871–1899), третий сын Александра III и младший брат Николая II, первые в очереди на престолонаследие, не умерли молодыми и дожили до вступления на престол? Или, например, Александр III, отец Николая II, прожил на 10 лет дольше? Безусловно, мы не можем судить, каким образом это повлияло бы на развитие России, но в учебниках мы читали бы совершенно иные главы.
Первые лейб-медикиХотя начало формирования медицинской службы при Дворе относится к середине XVI в., официальный статус лейб-медиков придворные врачи получили в XVIII в.
Первым лейб-медиком в России был немецкий хирург Johann Hermann Lestocq или, как его стали называть на русский манер, Иван Иванович Лесток (1692–1767), вошедший в историю не только как директор Медицинской канцелярии[50] в 1741–1748 гг., но и как организатор дворцового переворота 29 апреля 1741 г., в результате которого был свергнут император Иван VI (1740–1764), а на престол возведена дочь Петра I Елизавета Петровна (1709–1762).
Политические игры принесли немецкому врачу не только возвышение, но и опалу, начавшуюся в 1745 г. В 1748 г. за интриги против своего бывшего друга, Канцлера[51] Российской империи А.П. Бестужева-Рюмина[52] (1693–1766), Лесток был арестован и приговорен к смерти как политический преступник, но был помилован и сослан в 1750 г. в Углич, где провел три года. Затем Лесток был перевезён в Великий Устюг и освобождён только в 1762 г. Петром III (1728–1762)[53], возвратившим ему чины и конфискованное имущество.
Другой лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны – Герман Бургаве-Каау (1705–1753) – получил медицинское образование в Лейденском университете, где в 1729 г. стал доктором медицины. В Россию он приехал в 1742 г. и был назначен гоф-медиком. Пользуясь большим расположением императрицы, после падения Лестока в 1748 г. он был назначен «первым лейб-медикусом и главным директором над медицинским факультетом в Империи», с производством в тайные советники и назначением ежегодного жалования в семь тысяч рублей. Умер во время нахождения императрицы в Москве. По именному указу Елизаветы Петровны тело Герман Бургаве-Каау было положено в склеп при лютеранской церкви и только в 1815 г. было захоронено на московском Введенском кладбище.
Время было смутное, и вскоре сам Петр III, так и не успев короноваться[54], был свергнут, и уступил место своей жене, Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербстской, ставшей императрицей Екатериной II.
Отвлекаясь от темы нашего повествования, можно утверждать, что выходец из Германии французского происхождения Лесток оказал существенное влияние на внешнюю и внутреннюю политику России, что является наглядной иллюстрацией роли придворных врачей. В дальнейшем лейб-медики столь открыто политикой не занимались, хотя иногда и пользовались для решения своих личных вопросов близостью к императорской фамилии. В большей степени в сеть политических интриг оказывались вовлечены сомнительные личности из околомедицинской среды и откровенные шарлатаны, к сожалению периодически появлявшиеся при Дворе, хотя степень их влияния сильно преувеличена.
Поскольку до начала XIX в. придворная медицинская служба не была централизована, а стандарты обслуживания не только императорской семьи, но и всего Двора повышались, требовалось создание единой упорядоченной структуры. По инициативе Павла I в 1801 г. был утвержден штат придворных медицинских работников, включавший 33 человека, из которых четверо были лейб-медиками и еще четверо – лейб-хирургами. Помимо них, в штате числились акушер, зубной лекарь и его помощник, три придворных доктора, шесть гоф-хирургов, три штаб-лекаря, восемь лекарских помощников и повивальная бабка с помощницей. Также была утверждена Придворная аптека, в штате которой были главный аптекарь, младший аптекарь, два аптекарских помощника, а также два ученика и два служителя.
В 1818 г. лейб-медик Александра I, шотландец James Wylie, взявший себе в России имя Яков Васильевич Виллие (1768–1854), предложил разделить Санкт-Петербург на восемь медицинских округов, которые обслуживались придворными медиками. В марте 1839 г. Яков Васильевич составил “Проект Положения о придворной медицинской части Министерства Императорского двора”, основной идеей которого было объединение всех медицинских структур и сотрудников в единую самостоятельную структуру.
В январе 1843 г. “Положение о Придворной медицинской части”, было Высочайше утверждено Николаем I. Согласно этому “Положению”, Управляющим Придворной медицинской части назначался один из лейб-медиков, который являлся прямым начальником всего медицинского персонала Министерства Императорского двора[55], за исключением прочих лейб-медиков, и непосредственно подчинялся министру Императорского двора.
По первому штатному расписанию, в Придворной медицинской части числился следующий персонал: пять лейб-медиков, лейб-акушер, два лейб-хирурга, лейб-окулист, четыре дежурных гоф-медика, восемь окружных гоф-медиков, каждый из которых обслуживал один из восьми округов, на которые был разделен Петербург согласно “Положению”. Также в штате состояли дантист, четыре повивальных бабки и 18 лекарских помощников, из которых три человека состояло при лейб-медиках, десять человек – при окружных гоф-медиках, четверо – при дежурных гоф-медиках и один являлся костоправом. Штат Придворной аптеки был расширен до 12 человек.
Всего в 1843 г. в штате Придворной медицинской части состояло 59 человек, а их годовое содержание обходилось в 53 тыс. руб. В феврале 1843 г. штатное расписание было увеличено до 85 штатных единиц.
Не будем подробно останавливаться на реформировании и развитии Придворной медицинской части. Этому посвящено достаточно монографий и статей. Отметим, что основные этапы реформирования были проведены в марте 1851 и 1854 гг., затем в ноябре 1855 г. и в 1862 г., когда были ликвидированы придворные медицинские округа в Петербурге. Столь частые преобразования говорят о внимании, которое Министерство Императорского двора уделяло вопросам медицинского обслуживания императорской семьи и придворных.
Первыми лейб-медиками Придворной медицинской части были иностранцы – Я.В. Виллие (1768–1854), Э.И. Рейнгольд (1787–1867), Н.Ф. Арендт (1786–1859), Е.И. Раух (1789–1864) и М.А. Маркус (1790–1865). Однако, помимо пяти штатных лейб-медиков, существовали и сверхштатные – А.А. Крейтон (1763–1856), Я.И. Лейтон (1792–1864), И.Ф. Рюль (1768–1846), В.П. Крейтон (1791–1864).
Первым Управляющим был назначен Я.В. Виллие, занимавший эту должность с 1843 по 1853 гг. В 1854–1865 гг. Управляющим был М.А. Маркус (1790–1865), в 1865–1867 гг. – Э.И. Рейнгольд, в 1867–1882 гг. – Ф.Ц. Цыцурин (1814–1895). В результате реформы ведомства в 1888 г. должность Управляющего была переименована в должность Инспектора, которую занимали лишь двое: А.Л. Обермиллер (1828–1892) в 1882–1892 гг. и Н.А. Вельяминов (1855–1920) – в 1892–1917 гг. Последний Инспектор был уволен указом Временного правительства 9 апреля 1917 г. Деятельность Придворной медицинской части была прекращена Приказом по Народному Комиссариату[56] Имуществ Республики 15 июня 1918 г. В период безвластия, с 24 января 1918 г. по 15 июня 1918 г., из названия, в соответствии с новым духом времени, было исключено слово “Придворная” и Медицинская часть занималась оказанием помощи раненым.
В апреле 1873 г. по личному распоряжению Александра II была утверждена должность почетного лейб-отиатра, на которую был назначен Р.Р. Вреден (1867–1934), и придворного лейб-гимнаста (массажиста), на которую был назначен шведский доктор А.Г. Берглинд, владелец лечебно-гимнастического салона в Санкт-Петербурге. В 1875 г. была утверждена должность почетного лейб-дантиста, на которую был назначен “американский доктор зубной хирургии” Georges Charles de Marini[57]. Но должность лейб-педиатра по прежнему отсутствовала. Она появилась лишь в 1876 г.
Первым лейб-педиатром Российской империи был назначен немец Carl Gottlieb Rauchfuss, которого на русский манер стали называть Карл Андреевич Раухфус (1835–1915). Первым и единственным, поскольку в августе 1896 г. Иван Павлович Коровин (1843–1908), состоявший с 1877 г. при детях великого князя Владимира Александровича, был назначен именно почетным лейб-педиатром, как и Н.К. Вяжлицкий (1860–1939).
24 апреля 1888 г. императором Александром III было Высочайше утверждено новое “Положение о врачебной части Министерства Императорского двора”. Как было отмечено выше, в результате этой реформы учреждение стало именоваться “Инспекция врачебной части Министерства императорского двора”, а ее начальник – Инспектором, в непосредственном подчинении у которого оставались лишь его Канцелярия и Придворная аптека. Весь медицинский персонал стал подчиняться их непосредственным начальникам. Помимо этого, штаты Врачебной части были сокращены с целью оптимизации расходов. Вызвано же это было, вероятнее всего, отношением самого Александра III к медицине. В дневнике Н.А. Вельяминова читаем: “Государь, будучи, как он думал, всегда здоров, не нуждался во врачебной помощи, не любил лечиться, считал медицину «бабьим делом»” [35].
После смерти Александра III в 1894 г., назрела необходимость очередного реформирования, вызванная ужесточением контроля за санитарными вопросами в местах пребывания царской семьи, что требовало централизации врачебной службы, утраченной после реформы 1888 г.
17 января 1898 г. Николай II утвердил очередное и, как мы знаем, окончательное “Положение о Придворной медицинской части”, которой было возвращено первоначальное название, но возглавлял ее по прежнему Инспектор, которым был назначен лейб-хирург Н.А. Вельяминов. Николаю Александровичу был переподчинен весь медицинский персонал, за исключением лейб-медиков. Общая численность штатов, утвержденных 18 марта 1898 г., была увеличена до 130 человек.
В июле 1899 г. были введены дополнительные штатные должности старшего и трех младших санитарных врачей, а также врачей-ассистентов для подготовки резерва, увеличено число врачей и лекарских помощников “для командировок”, на пять человек было увеличено количество аптекарских помощников и штат Аптеки, утвержден постоянный штат сестер милосердия из 20 человек. Эти разовые изменения были закреплены штатным расписанием, принятым в 1902 г.
Придворная педиатрическая службаНесмотря на учреждение должности лейб-педиатра, как до этого момента, так и в последующем, лечением наследников и великих князей[58] занимались, в основном, лейб-хирурги, как наиболее близкие к императорской семье. В 1843 г., с момента основания Придворной медицинской части, должность одного из них занимал действительный статский советник И.И. Енохин (1791–1863), который был лечащим врачом цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II.
Иван Иванович Енохин родился в семье священника и первоначально получил образование в киевской семинарии и духовной академии. В 1821 г. он окончил Петербургскую медико-хирургическую академию, а уже в 1827 г. сопровождал Николая I в поездках по России, где близко познакомился с императором. В 1837 г. он был назначен главным лечащим врачом цесаревича Александра Николаевича, страдавшего астмой.
Несмотря на это хроническое заболевание, болел цесаревич достаточно редко. Первое серьезное обострение произошло в 1845 г., причем в газетах стали публиковаться бюллетени о состоянии его здоровья, из которых известно, что он страдал “ревматическими болями и лихорадочными припадками”. Однако обострение продолжалась не долго. В январе 1848 г. Николай I и цесаревич одновременно болели простудой. Пожалуй, лишь эти два эпизода вошли в историю.
В 1855 г., после того, как цесаревич стал императором Александром II, И.И. Енохин получил статус лейб-медика уже при новом Дворе. В дальнейшем Иван Иванович в значительной степени повлияет на развитие российской истории.
Влияние M. tuberculosis на ход российской истории
Судьба первого сына Александра II, цесаревича Николая Александровича (1843–1865), была трагична. Именно он в силу закона о престолонаследии должен был стать Николаем II.