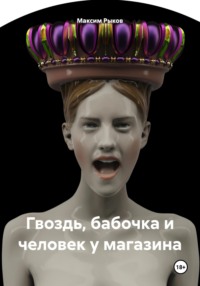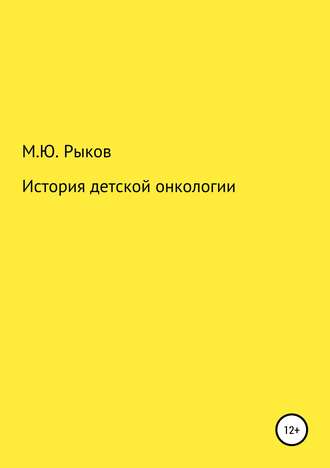 полная версия
полная версияИстория детской онкологии

Максим Юрьевич Рыков, кандидат медицинских наук, доцент, заместиетль директора НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, главный внештатный детский специалист онколог Минздрава России в ЦФО
От автора
Я давно хотел написать обзор по истории педиатрии и детской онкологии. Груз ответственности, ложащийся на любого, кто взялся за такую работу, долго останавливал. Нам, таким благополучным, пожинающим плоды бурного развития цивилизации XXI в., привыкшим к комфорту и наличию необходимой современной техники, крайне сложно представить себе этапы развития медицины, которые проходили в совершенно других, более суровых и не столь цивилизованных условиях.
Много ли мы, новое поколение, делаем для своего дела? Используем ли мы все наши возможности? Изучая историю развития медицины прошлых веков, мы приходим к убеждению, что нет. Локальные войны, которые мы сейчас, к сожалению, периодически видим в выпусках новостей по телевидению, далеки от нас. Наличие интернета в любом месте – ставшая давно привычной услуга, дающая доступ к обширной информации на любые темы. Возможность с комфортом печатать текст на современных компьютерах – рутина, о которой мало кто задумывается. Но еще наши родители и учителя, некоторые соавторы данного труда, искали информацию в библиотеках, печатали статьи и диссертации на пишущих машинках и не многие из них имели доступ к научным данным, публиковавшимся в других странах. А как можно оценить вклад в медицину, который вносили врачи, жившие в эпоху войн и революций? Только как героическое служение народу. И многие ли наши молодые коллеги знают о том тяжелейшем, трагическом и мало понятном нам сейчас пути, который прошла медицина и люди, посвятившие ей свои жизни?
Можно оправдывать себя тем, что в прошлые времена человечество только начинало идти по пути бурного развития науки, тем, что к настоящему времени совершены очень многие открытия, и делать новые все сложнее. Но так ли это? Полагаем, что новая техника, доступная сейчас, открывает не меньшее число возможностей. Может быть, не каждый из нас об этом думает. Да и ежедневная, кропотливая и такая тяжелая работа врача, за которую не дают Нобелевских премий, не оставляет времени для подобных размышлений.
Путь развития онкологии был так вызывающе символичен, что невольно обращаешь на это внимание. Вклад в спасение жизней от воздействия смертоносного химического оружия в годы кровопролитных Первой и Второй мировых войн, многочисленных, но неизбежных жертв ошибок врачей, совершенных столетия назад. Именно они выложили ту дорогу, которая в современном мире для многих пациентов стала дорогой к жизни.
Глава 1. Первые детские больницы
Детская онкология соединяет в себе как элементы педиатрии, так и онкологии взрослых. В свою очередь, педиатрия исторически развивалась в рамках акушерства и гинекологии – первой специальности, изучавшей медицинскую помощь детям.
Впервые в России педиатрия была отделена от акушерства и гинекологии в качестве отдельного предмета «Детские болезни с практическими занятиями в академической клинике» 15 июля 1869 г.[1] в Императорской Военно-медицинской академии. В 1891 г. подобная реформа была проведена и в Московском университете [1].
Дома для сирот и подкидышейЗабота о сиротах и подкидышах, начиная со средних веков, лежала на Церкви. Помимо христианского долга оказывать помощь нуждающимся, здесь наблюдалась и экономическая составляющая. Монастыри владели крупными земельными угодьями с многочисленным населением. Как и светские землевладельцы, они страдали от убыли рабочей силы в результате эпидемий, и духовенство стремилось сократить и восполнить людские потери не только из сострадания, но и исходя из хозяйственных интересов.
Разумеется, до возникновения государственной медицины, основная забота о здоровье детей лежала на их родителях и повивалках, то есть на “народной” педиатрии. Причем некоторые из таких “народных врачей” имели вполне приличный для того времени опыт и передавали его из поколения в поколение. Это было свойственно для всех стран. Отголоски этих традиций прослеживались вплоть до конца XVIII в. Например, в Англии и Франции уже в период научной медицины сохранялась монополия акушерок на оказание помощи роженицам, тогда как врачи от этой деятельности были фактически отстранены, а столь небольшая практика исключала возможность накопления опыта в педиатрии [4].
Примечательно, что еще в середине XVIII в. М.В. Ломоносов (1711–1765) в своем письме И.И. Шувалову[2] (1727–1797) “О размножении и сохранении народа российского” выдвигал предложение о созыве “Съезда народных акушерок”, записи их опыта и публикации этих материалов [2]. Как мы знаем, эта идея не была реализована, но Михаила Васильевича можно с полным правом считать инициатором первого в России, но так и не состоявшегося, медицинского конгресса (здесь и далее – выделено авт.).
На Руси, как и во всей Европе того времени, бушевали многочисленные эпидемии. Однако в нашей стране организация здравоохранения была поставлена несколько хуже. Например, в Светлейшей Республике Венеция[3] и Германии[4], имевших обширные торговые связи со многими странами, для борьбы с эпидемиями возникали специальные учреждения – Proveditori di sanita и Stadtphysici, которые хотя и были достаточно примитивно устроены, все же играли немалую роль в борьбе с чумой и оспой. Некоторым преимуществом нашей страны были размеры – большие расстояния отделяли одни населенные пункты от других, сдерживая распространение эпидемий. Но смертность, особенно среди детского населения, была очень высока, причиной чему были, помимо прочего, антисанитария в деревнях и селах, полное отсутствие медицинской помощи, невежество многих повивалок.
В литературе часто встречаются описания злоупотребления баней в отношении детей, избиения их банным веником, обжигания кипятком и т. д. [3]. Но, с другой стороны, баня была единственным способом борьбы с грязью, в которой росли дети.
Важную роль в развитии отечественной медицины всегда играли иностранные врачи. Малоизвестный широкой общественности португальский врач Antonio Nunes Ribeiro Sanchez (1699–1782), служивший в России в 1731–1741 гг., полагаем, сыграл важную роль в нашей истории.
Приехав в 1731 г. в Москву, иностранец был принят «физикусом» в Медицинскую канцелярию и занимался подготовкой фельдшеров, повитух и фармацевтов. В 1735 г. он был переведен в военное ведомство и служил врачом при военной части, расположенной в Ново-Павловске. Прославившись как искусный врач, 3 марта 1740 г. он был назначен гоф-медиком[5], а затем вторым[6] лейб-медиком[7] при великой княгине Анне Леопольдовне (1718–1746), матери Ивана VI (1740–1764) и регентше в 1740–1741 гг. при своем малолетнем сыне-императоре. При дворе португальцу приходилось лечить многих членов царской фамилии, в том числе Екатерину II, которую в 1744 г. Sanchez удалось вылечить от некой «опасной» болезни. В то время будущей императрице было всего лишь 15 лет, но она уже была невестой великого князя Петра Федоровича (1728–1762), будущего императора Петра III [6].
Как знать, не спаси тогда португальский врач жизнь немецкой принцессе, возможно, царствование Петра III было бы более продолжительным. Однако, как справедливо утверждал немецкий историк Karl Hampe[8] (1869–1936), “история не терпит сослагательного наклонения”. Не будем забывать об этом и мы.
В 1747 г. Sanchez заболел и подал в отставку, после чего вернулся на родину, где написал несколько монографий[9]. В 1774 г. был издан наиболее известный его труд “О парных российских банях”, который был опубликован на русском языке лишь в 1799 г. В главах IX и XII Sanchez описал лечение баней венерических болезней и “болезни, рак именуемой”. Это было одним из первых описаний лечения детей с опухолями в России.
Детские больницы, как самостоятельные учреждения, стали появляться значительно позже больниц для взрослых. Как в России, так и в других странах, дети получали медицинскую помощь в одних лечебных учреждениях со взрослыми пациентами.
Первая в истории детская больница была создана в 1769 г. шотландским врачом G. Armstrong (? – 1784) в Лондоне. О личности ее основателя известно крайне мало. George Armstrong начинал медицинскую карьеру в качестве фармацевта в провинции Гемпстед, затем получил образование врача и переехал в Лондон, где в 1769 г. основал первую больницу и диспансер для детей бедных родителей. Вызывает удивление, что за 12 лет ее существования в ней были приняты 35000 детей – почти 3000 ежегодно. При этом дети принимались в больницу без направлений и рекомендательных писем. Больница и диспансер просуществовали до декабря 1781 г., когда их пришлось закрыть из-за недостатка средств, поскольку правительство так и не выделило субсидию, несмотря на настойчивые попытки Armstrong этого добиться.
Сохранились и научные труды Armstrong. Первая известная работа датирована 1767 г. и называлась “Опыт о наиболее опасных детских болезнях с приложением правил вскармливания детей”. В 1777 г. вышел “Отчет о болезнях, которыми чаще всего болеют дети”, возможно, первый в истории труд, посвященный эпидемиологии детских болезней, а к переизданию этой книги был приложен “Генеральный отчет диспансера для детей бедных”. Таким образом, Armstrong, наряду с английским педиатром W. Kadogan[10] (1711–1797), можно считать одним из основоположников профилактической педиатрии.
Из уважения к основателю первой в истории детской больницы и для иллюстрации широты его взглядов и внимания к мелочам, процитируем отрывок из его трудов: “Многие бедные дети страдают от того, что живут скученно, в маленьких душных комнатах. Я в таких случаях всегда советую держать окна открытыми настежь в теплое время года, а ночью открывать двери спален. Решительно восстаю я против того, чтобы дети жили возле скотных дворов, воздух которых для них особенно вреден” (здесь и далее – сохранена орфография и пунктуация авторов цитируемых работ) [4]. Читателям, которым эти советы покажутся банальными, мы советуем вспомнить, что написаны они были в XVIII в.
Вторая в истории детская больница была открыта в 1802 г. на базе парижского воспитательного дома “Hotel Dieu” (“Божий приют”), основанного в 1362 г. Причем этот воспитательный дом не был первым в истории. Один из первых домов для подкидышей и сирот был открыт в 787 г. в Милане. Только четыре столетия спустя, в 1180 г., был открыт второй – в Монпелье, третий – в 1198 г. в Риме.
В России лишь в 1706 г. митрополит Новгородский и Великолуцкий Иов (? – 1716) на монастырские доходы организовал три больницы на берегу реки Волхов, гостиницу для прохожих и “дом для незаконнорожденных и всяких подкидных младенцев”, причем для последнего был выделен целый монастырь в Колмове (ныне Новгородская область) [5]. Однако эти учреждения не были больницами, поскольку в их штатах не было предусмотрено врачей.
Отметим, что еще Петр I (1672–1725) – Царь всея Руси[11] и первый Император Всероссийский[12] – неоднократно уделял внимание вопросам педиатрии, ставил в пример другим служителям церкви митрополита Иова.
Для иллюстрации уровня детской смертности в те годы приведем показательный пример. Из 11 детей Петра I от его второго брака с Мартой Самуиловной Скавронской[13], будущей императрицей Екатериной I (1684–1727), девять умерли в раннем возрасте.
По распоряжению Петра I в 1714 г. в Петербурге у церкви “Всех скорбящих радостей” была организована богадельня – приют для подкидышей и беспризорных детей. С улицы были организованы входы в чуланы, куда граждане могли анонимно приносить детей. 1 февраля 1721 г. был издан указ “О строении в Москве госпиталей для помещения незаконнорожденных младенцев и о даче им и их кормилицам денежного жалованья”.
Как ни странно, идеи Петра I в его правление реализованы не были. Об этом свидетельствуют не только известные нам исторические факты. В одной из сохранившихся записок Петра I читаем: “Сделано ли по указу о подъемных младенцах, как у новогородского архиерея Иова было. И если не сделано – для чего” [7]. Реализовать задуманное удалось лишь четыре десятилетия спустя Ивану Ивановичу Бецкому.
Императорские воспитательные дома в РоссииПредшественником детских больниц в России был Императорский воспитательный дом с госпиталем для бедных родильниц в Москве.
1 сентября 1763 г. императрица Екатерина II подписала манифест о его создании, подготовленный ее личным секретарем и президентом Императорской Академии искусств И.И. Бецким (1704–1795) [8].
Строительство было заложено на Васильевском лугу, где располагались Гранатный двор[14], Устьинские бани и другие постройки, и велось на пожертвования, которые вносила как сама Екатерина II (100 тыс. руб. единовременно и по 50 тыс. руб. ежегодно), так и ее придворные. Проект был подготовлен архитекторами К.И. Бланком (1728–1793) и Ю.М. Фельтеном[15] (1730–1801), а закладка здания была произведена 21 апреля 1764 г. – в день рождения Екатерины II. Западное крыло было построено в 1767 г., главный корпус – в 1781 г., а восточное так и не было возведено. В 1795–1797 гг. был замощён проезд по Москворецкой набережной, в 1801–1806 гг. была выложена её пологая гранитная облицовка. Помимо основного здания, к Воспитательному дому пристраивались административные здания на Солянке.
Пост главного архитектора в конце XVIII в. перешёл к династии швейцарских строителей Giliardi – вначале к Giovanni или, на русский манер, Ивану Дементьевичу Жилярди (1759–1819), а с 1817 г. – к его известному сыну, Domenico или, как его называли в России, Дементию Ивановичу (1785–1845), который совместно с А.Г. Григорьевым (1782–1868) выстроил здание Опекунского совета. В комплекс Воспитательного дома также входило бывшее Николаевское сиротское училище[16] и въездные ворота с Солянки со скульптурами итальянского архитектора И.П. Витали[17] (1794–1855). Уже в советские времена, в 1939–1940 гг., по проекту архитектора И.И. Ловейко[18] (1906–1996) было построено восточное крыло, завершившее композицию.
Воспитательный дом управлялся Опекунским советом и финансировался частными пожертвованиями, в том числе монархов и великих князей, а также налоговыми сборами – четвертью сбора с публичных “увеселений” (театров, опер, балетов, балов), восьмой частью дохода от лотерей и особым налогом на клеймение карт. В те времена все игральные карты, продававшиеся в России, облагались налогом в пять копеек с колоды российского производства и десять – с заграничных[19]. Это приносило немалый доход в 100 и более тыс. руб. в год. В 1819–1917 гг. Воспитательный дом обладал монополией на производство карт, которые выпускала только принадлежавшая ему Императорская Карточная фабрика, основанная в 1819 г. на территории Императорской Александровской мануфактуры[20] в Петербурге [9].
С самого основания Воспитательного дома большое значение придавалось медицинским аспектам деятельности учреждения. Согласно Генеральному плану «О начальниках и служителях Воспитательного дома», предусматривался штат медицинских работников, состоявший из докторов, лекарей и повивальных бабок.
Несмотря на это, смертность среди содержавшихся там детей была огромной. В первый год существования Московский воспитательный дом принял 523 ребенка, из которых в течение этого года умерло 429, то есть 82 %, а с 1764 по 1797 гг. выжило лишь 11 % всех принятых детей [10].
В 1770 г. по инициативе И.И. Бецкого по образцу Московского воспитательного дома был создан Петербургский воспитательный дом, где в 1771 г. был организован Родильный госпиталь, а в 1806 г. был основан первый в России класс для глухонемых детей.
Посетившая вскоре после открытия Воспитательный дом императрица Екатерина II нашла детей “неловкими, непонятливыми, молчаливыми и угрюмыми” [11]. Пытаясь исправить ситуацию, руководство Московского и Петербургского воспитательных домов начало отправлять детей в деревни на воспитание в крестьянские семьи. Поскольку за воспитание платили деньги – 3 руб. в мес. за детей в возрасте до 1 года и 1 руб. за старших детей – это привело к спекуляциям в деревнях. Крестьяне не только получали за сирот деньги, но и использовали их как дешевую рабочую силу, что привело к росту смертности более чем в два раза, и не только среди отданных на попечение детей. Значительно возросла смертность и среди сельских, поскольку переселенцы привозили с собой инфекционные заболевания и сифилис [11].
С Петербургским воспитательным домом связана деятельность выдающегося российского акушера Нестора Максима Максимовича Амбодика[21] (1744–1812). Как и многие врачи того времени он, выходец из семьи священника, вначале окончил Киевскую духовную академию. В 1769 г. Нестор поступил в Петербургскую медицинскую школу морского госпиталя. В 1770 г. он был направлен по особой стипендии из фонда княгини Е.Д. Голицыной[22] (1720–1761) на медицинский факультет Страсбургского университета, где 26 сентября 1775 г. защитил докторскую диссертацию на тему «О печени человека». Вернувшись в 1776 г. в Санкт-Петербург, Нестор Максимович был зачислен младшим доктором в Петербургские адмиралтейский и сухопутный госпитали, одновременно преподавая акушерство в лекарских школах при госпиталях [4].
В 1777 г. он вновь был направлен за границу для углубления знаний по акушерскому делу. После возвращения в Санкт-Петербург был назначен преподавателем школы при Кронштадтском адмиралтейском госпитале для чтения лекций по физиологии, медико-хирургической практике и лекарственным растениям.
10 мая 1781 г. Н.М. Максимович-Амбодик был назначен профессором «повивального искусства» в Повивальную школу при Петербургском воспитательном доме, где первым в России стал преподавать акушерство на русском языке. В 1784 г. Петербургская школа была преобразована в Повивальное училище, а через два года – в Повивальный институт.
Интересно, что Нестор Максимович никогда не назначался на руководящие роли. Директором Повивального института и родильного отделения Воспитательного дома был австриец, барон[23] I. Mohrenheim (1759–1797), лейб-медик императрицы Марии Федоровны, второй супруги императора Павла I – Sophia Marie Dorothea Augusta Luisa von Württemberg (1759–1828). Немецкое влияние, имевшее место в то время, безусловно, принесло много полезного в российскую науку, но и многим русским людям не давало возможности для максимальной реализации своих талантов.
В 1797 г. после смерти И.И. Бецкого Павел I (1754–1801) передал управление воспитательными домами императрице Марии Федоровне, однако, несмотря на попытки улучшить ситуацию, кардинально изменить ее не удалось.
Организация первых детских больниц в РоссииПервой детской больницей в России стала открытая в 6 декабря 1834 г., в день тезоименитства Николая I, Императорская детская больница в Петербурге, вмещавшая 60 коек, к которым вскоре добавили еще 40 для инфекционного отделения. В 1860 г., к 25-летию своего основания, больница была названа Николаевской в честь Николая I (с 1996 г. – ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова). Инициаторами ее создания были лейб-медик Николая I Н.Ф. Арендт[24] (1786–1859), К.И. Фридебург (1786–1835), ставший первым главным врачом этой больницы, и сенатор А.И. Апраксин (1782–1848). Почетным попечителем больницы был граф А.Х. Бенкендорф (1782–1844) – шеф Отдельного корпуса жандармов[25] и начальник III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии[26]. Чтобы у читателей не сложилось мнение о значительном отставании отечественного здравоохранения тех времен от европейского, напомним, что больница была лишь третьей в Европе.
С 1902 г. главным врачом Николаевской детской больницы был Н.К. Вяжлинский (1860–1939). В те годы первая в России детская больница занимала небольшое помещение на Б. Подъяческой улице, 30. К 1912 г. усилиями Николая Константиновича, ставшего почетным лейб-педиатром, удалось добиться решения о возведении нового здания на Аптекарском острове. Проект больницы был выполнен архитектором А.Г. Голубковым (1873–1922). Статус Императорской больница получила в 1912 г. Первые пациенты появились в новом здании уже после отречения Николая II – летом 1917 г.
Николай Константинович недолго возглавлял больницу на новом месте. В 1922 г. главным врачом стал Н.И. Красногорский (1882–1961), а бывший почетный лейб-педиатр ещё несколько лет заведовал амбулаторным отделением.
Первая попытка организовать детскую больницу в Москве относится к концу 1830-х гг. За ее открытие ратовал российский анатом П.П. Эйнбродт (1809–1840). В 1819 г. он, сын аптекаря, поступил на медицинский факультет Московского университета, где особенно увлекся анатомией. В 1826 г. П.П. Эйнбродт получил степень доктора медицины, в 1828 г. был назначен штаб-лекарем при Московском Воспитательном доме. Петр Петрович самоотверженно боролся с эпидемией холеры 1830–1831 гг. в Москве, за что был награжден орденом Святой Анны III степени[27], а в 1835 г. стал ординарным профессором. В 1837 г. он прочел специальный курс лекций для наследника престола Александра Николаевича – будущего Александра II, посетившего Москву. Именно П.П. Эйнбродт разработал проект первой в Москве детской больницы, но смерть помешала ему реализовать эту идею [12].
В ноябре 1840 г. генерал-губернатор Москвы князь Д.В. Голицын[28] (1771–1844) получил докладную записку Андрея Станиславовича Кроненберга, работавшего в то время врачом в Екатерининской больнице[29] [13]. В записке обращалось внимание на недопустимо высокую смертность детей в Москве и ставился вопрос о необходимости строительства детской больницы. Об уровне смертности в то время лучше всего свидетельствуют такие цифры: в 1832 г. из 4594 родившихся мальчиков умер 1081. Это произвело настолько сильное впечатление на Дмитрия Владимировича, что он не только разрешил провести сбор денег на реализацию этой идеи, но и сам внес значительную сумму.
Вскоре средства были собраны и под детскую клинику за 30 тыс. серебром была приобретена усадьба А.Н. Неклюдовой, вдовы генерал-лейтенанта С.В. Неклюдова (1746–1811), на Малой Бронной[30] улице, 15. Дом № 15 был единственным в то время каменным домом на Бронной улице, построенным в 1803 г., и потому уцелевшим при пожаре 1812 г. Чтобы в здании могло разместиться 100 коек, оно было реконструировано М.Д. Быковским (1801–1885) – главным архитектором Московского воспитательного дома. В главном корпусе на третьем этаже оборудовали церковь святой Татианы в память о супруге Д.В. Голицына, Татьяне Васильевне[31] (1783–1841). Первая детская больница в Москве и вторая в России была открыта 6 декабря 1842 г. и называлась в народе “Бронной”. С 1846 г. в ней стали проходить практическое обучение студенты медицинского факультета Московского университета.
Первым главным врачом клиники стал Андрей Станиславович Кроненберг, руководивший ей с 1842 по 1862 гг. В 1862–1870 гг. главным врачом был назначен Леонид Григорьевич Высотский (1823–1870), в 1870–1874 гг. – Николай Алексеевич Тольский (1832–1891), в 1874–1894 гг. – Егор Арсеньевич Покровский (1834–1895), в 1897–1904 гг. – Николай Викентьевич Яблоков (1845–1904), в 1904–1911 гг. – Дмитрий Егорович Горохов (1863–1921) [14]. Николай Алексеевич Тольский, начав преподавание педиатрии на медицинском факультете, организовал в 1888 г. кафедру детских заболеваний на базе больницы. Дмитрий Егорович Горохов в 1907 г. создал Общество борьбы с детской смертностью и написал монографию «Детская хирургия», ставшую одной из первых в России. Учеником этих выдающихся врачей был основоположник русской педиатрии Н.Ф. Филатов (1847–1902), имя которого было присвоено больнице в 1922 г.
В 1883 г. в больнице случился большой пожар, после которого ее закрыли, но поликлиника продолжала работать. 30 апреля 1885 г. князь А.А. Щербатов (1829–1902) передал в дар городу для размещения сгоревшей детской больницы усадьбу своей матери, княгини Софьи Степановны Щербатовой (1798–1885), расположенную на Садовой—Кудринской улице, но с условиями назвать больницу “Софийской” в память о покойной княгине и освятить домовую церковь во имя святых Софии и Татианы, чтобы восстановить посвящение престола “Бронной” больницы. Для перестройки усадьбы и устройства церкви пригласили известного архитектора А.С. Каминского[32] (1829–1897), зятя братьев Третьяковых. Здание “Бронной” больницы на одноименной улице продали за 140 тыс. руб. в 1890 г. Виктору Николаевичу Гиршу, владельцу так называемых “дешевых” домов, где проживали студенты.
Чтобы разместить больницу на Кудринской и сохранить парк, рядом с поместьем Щербатова купили за 60 тыс. руб. еще и соседнее поместье дворянки Ольги Николаевны Коншиной (1841–1888), супруги купца 1-й гильдии Николая Николаевича Коншина (1833–1918) – потомственного дворянина, учредителя и главы «Товарищества Мануфактур Н.Н. Коншина в Серпухове».